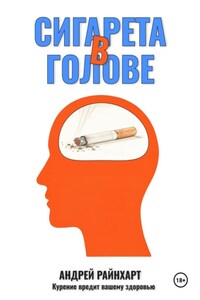В доме пахло старым деревом и вином. Сумерки уже сгущались над деревней, и в этой тишине слышался лишь скрип верёвки. Томас, сломленный временем мужчина, стоял на шатком стуле. В его глазах мутно отражалась усталость и бесконечная тоска. Руки дрожали, узлы не слушались, но он всё равно продолжал, будто только эта петля могла принести облегчение.
Перед внутренним взором вновь и вновь вставали картины прошлого: лицо жены, бледное от чумы, холодные губы сына – ещё совсем мальчика. Они ушли, а он остался, как ненужный остаток, как обломок, выброшенный бурей.
«Зачем жить, если дом пуст?» – думал он, сжимая верёвку.
Дверь вдруг распахнулась с резким треском.
– Отец! – крикнула Моралин. Голос молодой женщины, надломленный отчаянием, ударил по его спине сильнее, чем ветер.
Она бросилась к нему, сбив стул, сорвала верёвку с его шеи.
– Ты что делаешь? – её глаза горели слезами. – Я потеряла мать, брата… а теперь и ты хочешь уйти? Ты оставишь меня одну, как будто я уже мертва для тебя?
Томас, краснолицый от вина, пошатнулся, с трудом удерживаясь на ногах. Его губы исказила кривая усмешка.
– Не дают даже умереть спокойно… – пробормотал он, резко толкнув дочь. Та отшатнулась, ударившись плечом о стену.
Не оборачиваясь, он захромал к двери, спотыкаясь о собственную тень, и вскоре тяжёлые шаги растворились во дворе.
Моралин осталась в пустой комнате. Её дыхание сбивалось, пальцы дрожали, словно она сама стояла под петлёй. Слёзы прорвались наружу. Она закрыла дверь, задвинула засов и, как делала это каждую ночь, рухнула на постель.
– Зачем… зачем эта жизнь?.. – шептала она в темноте, сжимая в руках одеяло. – Всех забрали, всё унесли… и теперь он тоже уходит. Лучше бы чума забрала и меня…
Дом снова утонул в тишине. Лишь за окном ветер шептал в ветвях, будто подслушивал её муки. Ночь накрыла деревню медленно и неумолимо, как чёрное покрывало.
Луна пряталась за тяжёлыми тучами, и только багровый отсвет пожаров где-то далеко дрожал на горизонте, словно само небо пылало.
Томас шатался по двору с бутылкой в руке. Его тени вытягивались на земле – длинные, уродливые, казалось, сама тьма хотела распять его. Он остановился, привалившись к изгороди, и вдруг услышал… дыхание. Хриплое, низкое.
– Кто там?.. – голос сорвался, и он немного отступил назад.
Из мрака выступила фигура. Женщина с тяжёлым шагом. На лице – звериная маска волка, в глазницах которой тлел кровавый свет. Длинные рыжие волосы падали на плечи, спутанные, будто обожжённые пламенем. Её одежда была словно соткана из древнего ужаса: кожа, кости, вплетённые амулеты, металл, переживший века.
Она не спешила.
– Уйди… – Томас поднял руки, как ребёнок, – прошу… оставь.
Но женщина в маске не знала милости. Она наклонила голову, и тёплый пар её дыхания сорвался из щелей маски, будто волк собирался зарычать. В тот миг Томас ощутил – всё внутри оборвалось. Он хотел броситься прочь, но тьма сковала ноги.
Её рука метнулась с нечеловеческой быстротой. Металл когтей вспорол ему горло, и красная полоса брызнула на землю. Томас захрипел, уронив бутылку. Она разбилась, стекло звякнуло – и с этим звоном жизнь вытекла из него.
Моралин проснулась от крика. Вздрогнула. Сердце стучало в висках, словно кто-то бил в барабан. Она бросилась к двери, распахнула её – и застыла.
В лунном отблеске она увидела отца, распростёртого на земле. Его глаза остекленели, губы безмолвно открыты. А рядом – силуэт женщины в волчьей маске, глаза которой пылали огнём. Красные отблески отражались в крови.
Моралин не смогла закричать. Тело само отпрянуло назад, ноги понесли её, будто принадлежали не ей. В панике она рванула в дом, вниз по лестнице, в тёмный сырой подвал. За спиной раздавался гулкий, увесистый шаг.