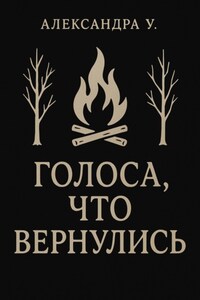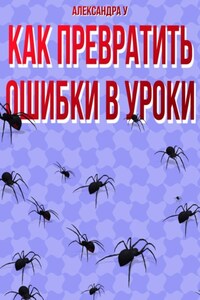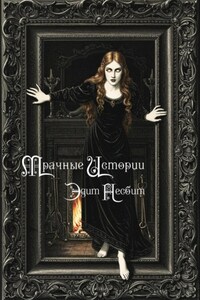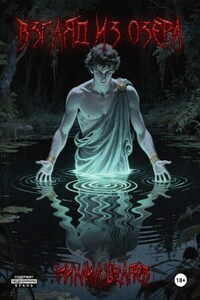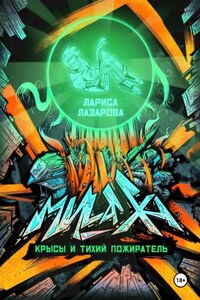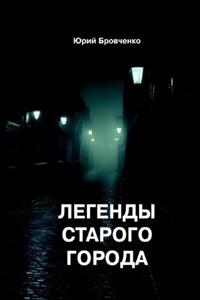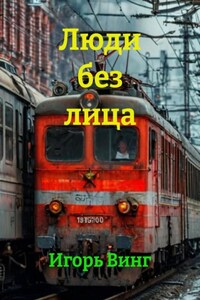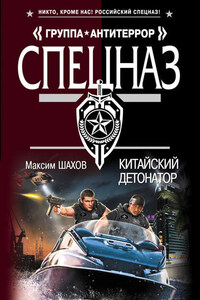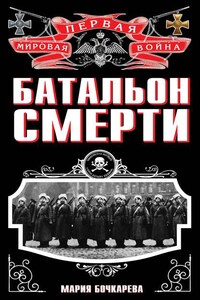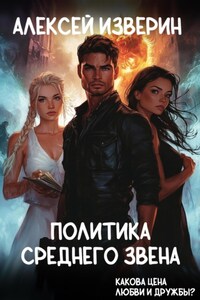Ночь стояла неподвижная, как опрокинутая чаша. Костёр потрескивал на дне этой чаши – один живой глаз в кромешной темноте. Мы сидели плотнее, чем обычно: не потому что было холодно, а потому что вокруг лес изредка делал то, чего от леса никто не ждёт – вдыхал. Сразу тихо становилось, будто кто-то пригубил тишину, а потом отдал обратно, уже чужую.
Сказал, что это просто ветер, Вадим. Сказал – и неловко засмеялся. Ирина толкнула его в плечо и попросила не врать: ветра не было. И правда – ветки не шевелились, дым не уносило. А где-то издалека, будто по чёрной воде, катился длинный приглушённый звук, похожий на человеческий голос, но лишённый слов.
Вы бы сказали: сова. Или лось. Или эхо. Мы тоже так говорили. Первый час. Второй. До того момента, как эхо позвало меня по имени – и произнесло его тем голосом, которого уже пять лет как нет на свете.
Я не рассказывал никому, что отец умер, не успев вернуть мне долг – обещанный поход к озеру, где вода, если верить его рассказам, «светится сама собой». Он шутил, что озеро – фонарь, который положили под землю. Я знал его голос в полутьме лучше, чем тайники в нашем дворе. И в ту ночь, когда костёр сводил искры в тонкие скобы светляков, этот голос вернулся – не от костра, не из ночи, а извне. И сказал: «Не иди. Не туда».
А мы пошли.
И вот я расскажу вам эту историю. Не для того, чтобы вы в неё поверили. Вера – слабая верёвка. Её легко перерезать. Я расскажу, чтобы, когда вы встанете и пойдёте спать, вы сделали это молча. И не отвечали, если в тишине кто-то шевельнётся и назовёт вас по имени.
Потому что тогда она начнётся снова.
1
Мы вышли поздно, как всегда выходит компания, которой важнее спор о маршруте, чем сам маршрут. Нас было четверо: Вадим – громкий, поджарый, с вечным желанием сбавить серьёзность до шутки; Ирина – тонкая, внимательная, глаза цвета холодной воды; Антон – молчун, таскавший на плечах слишком тяжёлый рюкзак и не жаловавшийся; и я – Мирон, человек, у которого с картами всегда ровно, а с дорогами – нет.
Мы шли в Бор, который на карте обозначен жирной зелёной заплатой, а на деле выглядит как ровное чёрное море, где деревья – это волны, застывшие на секунду перед тем, как рухнуть. Цель была простая: три дня по кольцевому маршруту, ночёвки у воды, костры, влажные носки, мысли о том, чем занимается мир по ту сторону леса.
Первые пару часов лес был таким, каким ему и положено быть: тропинки под ногами, песок и мох, комариное звено, тёплые лужицы солнечных пятен. Мы смеялись, делали фото, спорили кто несёт котелок. Вадим рассказывал, как в этих местах «на древних языческих пепелищах» строили лагеря, а потом забрасывали их, потому что костры сами тухли. Ирина слушала и глядела мимо нас – чуть в сторону, будто что-то шло там, параллельно нашей тропе.
Ближе к вечеру лес стал иным. Тени вытянулись, стволы потемнели, и шаги зазвучали глухо, будто мы шли не по земле, а по крышке пустого ящика. Птицы замолкли разом – так замолкают гости, когда в комнату входит тот, кого никто не звал. Мы одновременно подняли головы – и ничего не увидели. Только пространство между деревьями стало чуть гуще, как если бы воздух здесь раз за разом истирали чужими плечами.
– Тропу не потеряли? – спросил Антон.
– Мы на ней, – сказал я, указывая на едва заметную борозду. – Завтра будем у ключа. Сегодня – лагерь на «Пустом месте».
– На каком ещё пустом? – фыркнул Вадим.
Я пожал плечами.
– Так в двух картах подписано. Площадка без деревьев. Удобно.
Ирина помолчала, потом спросила:
– «Пустое» – это как «чистое» или как «лишённое»?
– Не знаю, – сказал я. – Мы увидим.
Мы увидели.
2
Поляна действительно была круглая, как дно старого таза. Трава на ней была на ладонь ниже, чем вокруг, и мокрее, будто её только что поливали. По краям – осины и дубы, их ветви тянулись внутрь, но будто не решались накрыть этот круг тенью. Над головами стояла ровная серая крышка неба – без звезд, без просветов. В центре поляны уже был сложен кострище – аккуратная яма в каменной обкладке, как в готовом туристическом месте. Только следов – никаких. Ни чужих углей, ни фантиков, ни тропинок, ведущих к нему.