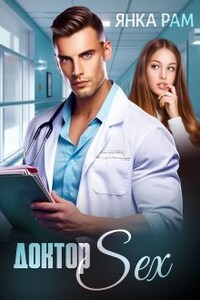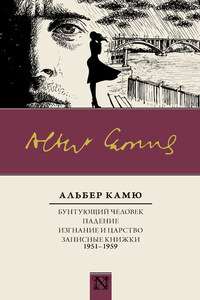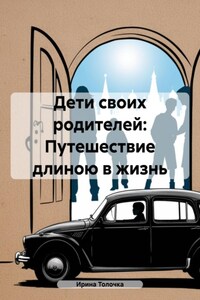Я считаю дни. Мой психоаналитик говорит, что это компульсия.
Попытка купировать отчаяние или тревогу иррациональными ритуалами.
Возможно. Сегодня две тысячи сто восемьдесят шестой. Я не веду
какие-то записи. После пробуждения как будто срабатывает счётчик, и
я знаю очередную цифру. Две тысячи сто восемьдесят шестой. Это
очень большое число.
«Дни до чего? – часто спрашиваю я себя. – До того, как эта моя
жизнь закончится? До того, как что-то изменится? До того, как меня
отпустит? До того, как ты вернёшься в мою жизнь?»
Ответа нет. Ты не вернёшься. Не вернёшься – и мне пусто. Две тысячи
сто восемьдесят шесть дней пустоты, наполненных имитацией
успешности. К фасаду претензий нет. А внутрь я никого не пускаю.
Неприглядное зрелище. Внутрь я не пускаю даже себя. Но как-то нужно
жить дальше, и я совершенствую фасад.
Чем там может отвлекаться взрослый мужчина? Я избирателен. Мой
психоаналитик говорит, что это перфекционизм. Неспособность
принимать несовершенства.
Я избегаю близких связей, оборвав все старые. Но они неизбежно
нарастают снова. Меня нельзя назвать общительным, скорее, ровно
наоборот. Но привычка излагать обрывки мыслей вслух почему-то
привлекает людей. Быть может, дело в мыслях. Сомневаюсь, что кто-то
улавливает смыслы. Ты – ловила с полувзгляда. Я мог даже молчать.
Ты их создавала.
Теперь смыслов почти не осталось.
Остались развлечения – работа, приятный лайф, путешествия,
секс…
Женщины… Это всегда было непросто. После тебя –
мазохизм. Честно пытался создать что-то стоящее. Но есть
некоторые детали… Я до сих пор ощущаю твои губы, когда просыпаюсь.
Очень реалистично. А больше у меня не осталось ничего. Не хочу
целовать другие. И достаточно уважаю себя, чтобы не делать то, чего
не хочу. Табу на поцелуи – это не то, что готовы принимать женщины,
которые могли бы быть интересны мне. Конечно, я нашёл выход… У меня
есть нижняя. Красивая послушная девочка, которая внешне похожа на
тебя. Я сохраняю дистанцию. Она не страдает и не требует большего.
У нас хороший секс. Мои тело и психика сыты, а душа мертва. Но это
тоже больно.
Кто дал тебе столько власти надо мной, женщина? За что?
Зачем?
Нет, больше не анализирую. Этому я посветил первые восемьсот
сорок.
Я не религиозен. Но ищу в себе силы обращаться куда-то наверх,
чтобы желать тебе счастья. Для этого действительно нужны силы.
Потому, что моя жизнь вдребезги разрушена тобой, и я не могу найти
ни одного повода, чтобы не ворваться в твою и не взорвать её, кроме
данного себе обещания.
Обещания никогда больше не появляться в твоей жизни.
Олег:

Женечка:

На светофоре – красный. Рекламные баннеры пестрят
безвкусным дизайном. Лёгкий дождь превращает пыль на капоте в
грязевые ручейки. Рубашка липнет к спине от влажности. Душно...
Сегодня бесит всё, что обычно кажется лишь фоном. Натирает её
кольцо – широкая платиновая лента, оформленная рельефным меандром.
«Навсегда, – говорила она, окольцовывая меня. – Вместе мы или нет,
что бы ни происходило. Ты внутри меня, и ты – мой бог». Под
металлом кожа горит. Пальцы машинально покручивают его.
Богом я быть давно перестал, а кольцо осталось. Как напоминание о
тех временах, когда чувствовал себя им. Падение с Олимпа не ломает
костей. Но оно ломает. И сегодня опять накатило…
Это – как хроническая зубная боль: жить можно, но всё
раздражает.
Толстый смуглый итальянец, притормозив в параллель, истерично
долбит по клаксону. Мои глаза лениво рассматривают его. Наверное,
это было бы приятно – озвереть, выйти и раздолбать всё, до чего
достану через открытое окно его тачки. Наверное, это бы на
несколько минут отвлекло меня от этого зудящего беспокойства. Но
итальянцу повезло. Я – цивилизованный зверь, и, чтобы унять свои
нервы, долблю не по чьим-то неприятным лицам, и не по клаксону, а
по груше в спортзале.