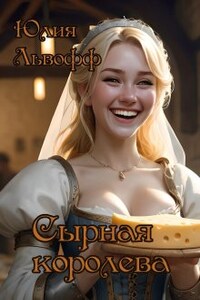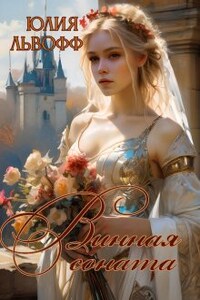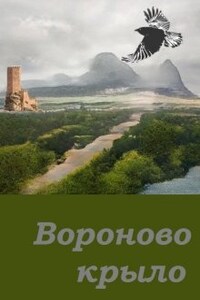В этом году весна пришла в Фризию раньше обычного. От далёких
вечных ледников веяло прохладой, а в долинах уже весело звенела
капель: с крыш приземистых сложенных из грубого серого камня домов
свисала сверкающая на солнце бахрома сосулек; с гор, где началось
таяние снегов, сбегали ручьи, вливаясь в широкую синеву озера,
названного Девичьим, потому что там в старину, спасаясь от набега
кочевников, утонули послушницы монастыря. Сам монастырь, который
был невидим зимой из-за укрывавшего лес снега, а летом – из-за
густой зелени, сейчас блестел на солнце золочёной черепицей крыши.
За ним острым шпилем поднимался скалистый утёс Проклятой горы, где,
по старинным поверьям, был похоронен колдун, некогда принёсший
немало бед фризскому народу. Говорили, что прадавний вождь фризов
велел срубить монастырь по соседству с горой, чтобы
монахини своими молитвами удерживали колдовское зло под
землёй. Эти поверья передавались от одного поколения к другому, с
каждым разом обрастая новыми и ещё более ужасными подробностями, -
так страх веками удерживал любопытных от желания докопаться до
истины. Причём «докопаться» в прямом смысле слова: ведь, помимо
заклятия, ходили также осторожные слухи о том, что вместе с
колдуном в могиле были зарыты какие-то редкие сокровища.
- Какая же удивительная красота вокруг! Какой пьянящий простор!
– восторженно воскликнула стоявшая на холме девушка и раскинула
руки так, будто хотела обнять всё то, что видели её глаза: и ясную
голубизну неба, и глубокую синеву озера, и темневшие за ним
сосновые боры.
Одинокая фигурка девушки чётко вырисовывалась на фоне укрытых
снегом холмов: тоненькая, она производила впечатление хрупкости, и
мало кто знал, какой ловкостью и выносливостью обладало девичье
тело. В целом внешний вид девушки был обманчив, потому что с
первого взгляда её можно было принять за пострела-мальчишку,
готового в одно мгновение взобраться на самое высокое дерево, на
спор быстрее всех добежать до самого дальнего холма или забраться в
чужой сад за спелыми сливами. Коротко остриженные пепельного цвета
вихры взлохмачены, очертания плеч и бёдер угловаты, локти и коленки
острые, движения порывистые. Лицо можно было назвать скорее
привлекательным, чем красивым, и то благодаря коже – удивительно
нежной, белой и матовой, напоминавшей подсвеченный изнутри тонкий
фарфор. И ещё глазам – большим, непроницаемо-чёрным, с ярким
блеском: эти поразительные глаза делали лицо одним из тех, которые,
один раз увидев, уже нельзя забыть. Девушка была одета, как
монастырские послушницы: в длинный, ниже колен, чёрный подрясник с
длинными узкими рукавами, слегка расширенными от локтя; сверху была
наброшена подбитая овчиной накидка, зашнурованная у самого
горла.
- Красиво же, правда? Что ты молчишь, Тайгет? – Девушка
обернулась, присела на корточки и склонилась над чем-то, завёрнутым
в тряпицу.
На её голос из тряпицы выглянуло странное существо: едва
оперившийся птенец горного орла с приплюснутой с боков головой змеи
и жёлтыми глазами рыси. Издав в ответ тонкий протяжный звук,
существо тут же спряталось обратно.
- До чего же ты трусливый, Тайгет! – рассмеялась девушка и,
просунув руку внутрь тряпицы, пальцем погладила птенца по голове
между глаз. Тот снова пропищал, и девушка прибавила: - Ну не ворчи,
не ворчи! Я помню, что тебе довелось пережить, и знаю, что для
того, чтобы освоиться в этом мире, тебе понадобится время.
Она бережно взяла птенца в руки, прижала к груди и
выпрямилась.
- Ладно, Тайгет, мне пора бежать! Отнесу тебя в укрытие,
еды, что принесла, тебе хватит до завтра, и завтра же мы с тобой
свидемся снова. Веришь, я бы с радостью провела в твоей компании
весь день, но порядок в монастыре обязателен для всех, а матушка
настоятельница строга ко всем без исключения. Если я нарушу
монастырский устав и опоздаю к обеду хоть на минуту, меня накажут
поркой розгами. В лучшем случае, на десять дней посадят на
хлеб и воду.