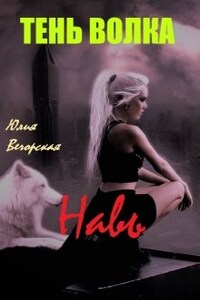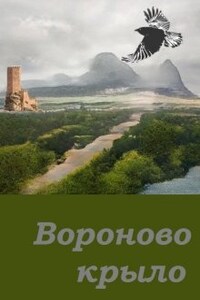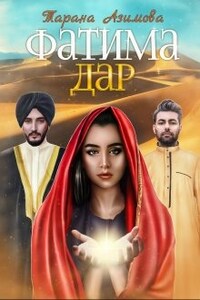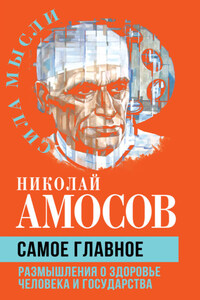Все ближе и ближе раздавались крики, гремели автоматные очереди,
рвались снаряды. А она стояла одиноко на верхнем этаже
полуразрушенного здания со следами крови и пуль, среди ржавых
арматур и обломков мебели, и ветер, наполненный гарью, развевал ее
спутанные золотистые волосы. На вид девчонке было лет десять, как и
моей любимой младшей сестренке. Дитя войны, грязная, исхудавшая и
застывшая, словно испуганный зверек, в вечной гонке за выживание. Я
же в поисках более выгодной позиции бежал по шаткой лестнице, пока
не наткнулся на нее.
В этом регионе, куда я недавно прибыл в составе миротворческих
сил, конфликт длился лет двенадцать. Достаточно, чтобы целое
поколение не знало детства. И нам было приказано относиться к ним
как ко взрослым, без всяких поблажек. Но я не мог. Потому в моем
сознании что дети - это дети. Они должны знать ласку матерей,
ходить в школу, играть со сверстниками и не бояться, что в любой
момент их покалечат, изнасилуют, убьют. И потому что еще сам был
слишком молод, не успел очерстветь. Или наоборот, набраться опыта и
поумнеть.
И, наплевав на все инструкции и здравый смысл, я безрассудно
рванул к ней, этой золотоволосой девчонке, так мучительно
напоминавшей мою сестренку, чтобы защитить, утащить от несущейся
отовсюду смерти. Когда между нами оставалось несколько шагов, она
обернулась и в ее стальных глазах я увидел жгучую ненависть. От
неожиданности застыл на месте и в тот же момент на мою голову сзади
обрушился сокрушительный удар. И все потонуло в черноте.
Очнулся уже в госпитале. Как сказала медсестра, мне нереально
повезло, что оказался здесь, потому что сперва меня приняли за
труп, решив, что после падения с подобной высоты и с такими
повреждениями не выживают. Но в ее взгляде явственно читалось, что
лучше бы я умер, ибо остаться на всю жизнь парализованным -
страшнее смерти. Потом навалились месяцы без движения, отчаянье,
неудачные операции. Это было жуткое ощущение: всю жизнь посвятить
тренировкам, воспринимать свое тело как совершенную машину,
кайфовать от своих возможностей - и вмиг все потерять. И, главное,
некого винить кроме собственной глупости.
Осталась последняя надежда, последняя, самая рискованная
операция. Меня, старшего лейтенанта Дениса Ковальчука, привезли в
стерильную палату с белыми стенами, вставили катетер. И через пару
минут я провалился в глухую темноту.
***
Какие противные, зудящие звуки, режущие ухо словно орда
надоедливых комаров. Сквозь них наплывают голоса, вытаскивая из
полусна.
- Поразительно: он абсолютный нейтрал.
- У них на Земле изредка встречается нечто похожее, но
обычно среди монахов, почти всю жизнь промедитировавших в поисках
просветления.
- Это которые боятся испытывать хоть какие-то эмоции,
совершать деяние, поэтому заживо себя хоронят? Они скучны, как
облезлые статуи. А в этом бурлят жизненные силы и при этом всего в
равной мере: и добра, и зла, и грехов, и подвигов, и пороков, и
добродетелей. Невероятно. Мне кажется, мы наконец нашли субъекта
для мирного разрешения спора.
Где я? Операция закончилась? Тогда почему невозможно
разлепить глаза, словно веки налиты свинцом? А еще парю как в
невесомости. Наверно, вкололи в качестве анестезии легкий наркотик,
вот и глючит слегка.
В сознание вплывает абсолютно идиотская мысль, что если
поднапрячься, то можно видеть кожей. Вот так, еще чуть-чуть...
Клиника, конечно, но неожиданно во мраке и вправду начинают
проступать серебристый и рубиновый силуэты, а вокруг них то ли
сияние, то ли гигантские крылья. Такое ощущение, что смотришь
сквозь запотевшее стекло.
- На что и зачем нам заключать пари, темный, если ваши почти
захватили этот мир? Осталось совершить последний прорыв - и вы
властелины, - сухо спросил серебристый.