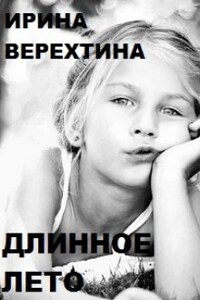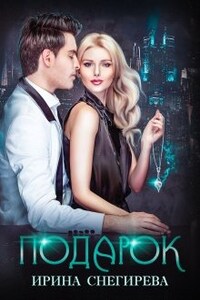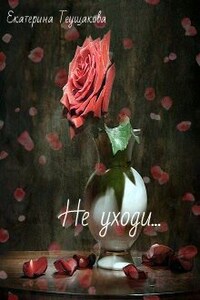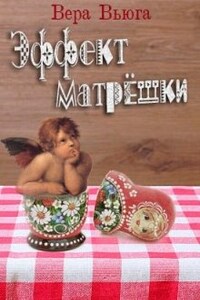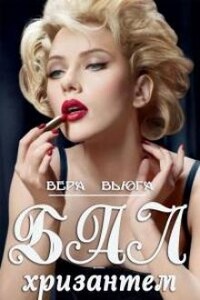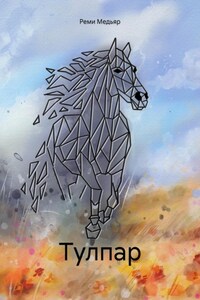Свой сорок второй день рождения Тася встречала одна. Можно было
пригласить Лену с Машей – бывших школьных подружек, с которыми Тася
иногда виделась. Они бы непременно пришли, и весь вечер, перебивая
друг друга и радостно тараторя, вспоминали школьные развесёлые
времена… Почему-то воспоминания о школе и детстве принято считать
беспечально-радостными, разноцветно-весёлыми и
безмятежно-счастливыми. Тася так не считала. Ей не хотелось –
вспоминать. И она никого не пригласила.
С утра устроила уборку, скатала в рулон ковры, сняла покрывала с
дивана и с кресел, вынесла во двор и долго чистила снегом, азартно
колотя по коврам бадминтонной ракеткой и сметая снег веником. От
снега ковры налились свинцовой тяжестью и стали неподъёмными, а их
ещё надо было донести до подъезда, втащить по лестнице к лифтовой
площадке и втиснуть в лифт, а потом вытащить из лифта и внести в
квартиру. Тася выбилась из сил, а ковры надо было ещё раскатать и
расстелить по своим местам – то есть во всех комнатах и в
коридоре.
Тася подумала, что не сможет этого сделать, потому что сейчас
умрёт от усталости, которая навалилась на неё многотонной тяжелой
волной, сковывающей движения и парализующей волю. Волна что-то
лениво нашёптывала в уши, но Тася заставила себя стряхнуть с плеч
её дремотные объятия и заняться делом. Раскатала последний ковёр -
и ощутила непреодолимое желание лечь на него и немножко полежать.
Улеглась на полу, испытывая райское блаженство и уткнувшись в
ковровую дорожку лицом. Дорожка пахла подтаявшим снегом и морозной
сладкой свежестью. Тася явственно ощутила запах весны, хотя была
ещё только середина февраля, и весной на улице не пахло. А в
квартире у Таси – пахло! Тася могла в этом поклясться, хотя
клясться ей было некому.
Ещё она поменяла местами кухонный стол и холодильник (отчего
кухня стала словно бы не её, Тасиной, а чужой, незнакомой) и
повесила новые занавески. Занавески были Тасиной гордостью: она
сама выкроила их по рисунку в журнале и сшила на машинке, и теперь
они красовались на кухонном окне – сказочно красивые, с
ламбрекенами и длинной шелковой бахромой.
Когда вся квартира сверкала и блестела, Тася взялась за
антресоль. И в дальнем углу обнаружила старый, видавший виды
рюкзак, выбросить который у неё никогда не хватало сил: с ним было
связано столько воспоминаний… Собственно, сам рюкзак был
воспоминанием – зеленый, с брезентовыми лямками и ремнями из свиной
кожи. Таких теперь не делают. Рюкзак был – из Тасиной юности.
Тася достала рюкзак и, обтерев мокрой тряпкой от пыли, принялась
исследовать его содержимое – впрочем, знакомое ей как свои пять
пальцев: тетради с институтскими лекциями по стилистике, эстетике и
истории искусств; блокнот с юношескими стихами… Тася писала стихи.
Подруги говорили – хорошие. Но из издательства «Юность», куда она,
набравшись храбрости, отправила стихи ценной бандеролью (поехать
самой не хватило мужества), блокнот вернулся, как догадалась Тася,
так ни разу и не раскрытый. Вместе с блокнотом в конверте лежал
тоненький листок - полстраницы машинописного текста. Листок скупо
сообщал Тасе, что план издательства утверждён на два года
вперёд, и её стихи, к сожалению, напечатать не могут. Стихи
тактично предлагали отправить в другие издательства, но она больше
никуда не обращалась, поняв, что последняя фраза – просто акт
вежливости, как и слово «к сожалению», и её стихи никому не нужны.
Как и она сама.
Кроме тетрадей и блокнота, в рюкзаке обнаружился Тасин дневник
двадцатилетней давности. Дневник Тася решила оставить на десерт.
Закончив разбирать антресоль, вымыла полы, отдраила жесткой щеткой
плинтуса (покрасит летом) и блаженно вытянулась на диване,
чувствуя, как гудят усталые ноги. Вот теперь можно открыть дневник.
Хотя зачем? Она всё помнила. Такой характер: ни о чём не забывала,
сколько бы лет ни прошло…