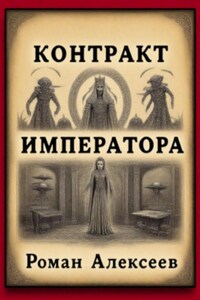Станция Эо-17 висела в точке без времени, как забытая запятая между предложениями вселенной. Пульсаций было две: одна – глухая вибрация глубинных генераторов, еле различимая, как дыхание уснувшего кита. Вторая – тишина, слишком долгая, чтобы быть мертвой, слишком внимательная, чтобы быть живой.
Лея Ортис шагала медленно, как будто входила в чужую память. Местами гравитация давала сбои – кожа отставала от костей, как перчатка от руки, и мир становился слегка вязким. Она не боялась этого – после десятка экспедиций во временные петли страх утратил свою полезность.
Она шла не за доказательствами. Не за открытиями. В последнее время она всё чаще искала что-то, что не укладывалось в отчёты. Что-то, что нельзя было отправить в архив или расшифровать алгеброй. Как будто за всем научным орнаментом всегда оставалась пустая ячейка, в которую никто не вписывал главное.
В помещении, которое числилось как “архивный отсек времён до 2070-х”, пахло остывшим железом, запыленной тканью и чем-то почти сладким – как будто сама пыль хранила воспоминания о сахаре. Стеллажи были пустые. Или почти пустые.
На одном из них, под потухшим тактильным индикатором, лежало нечто, что её пальцы ощутили прежде, чем глаза увидели.
Книга. Бумажная. Настоящая.
Она не лежала, как оставленная вещь. Она пребывала, как объект, обладающий собственным временем. Цвет переплёта был тёмен, почти чёрен, но с оттенком винного – как засохшая кровь на бархате. Ни заголовка, ни символов, ни метки. Только едва различимая текстура, похожая на сеть сосудов под кожей ладони.
Лея не сразу решилась коснуться. Рука зависла в полусантиметре. Страх был не в книге. Он был в том, что она узнает. Узнает что-то такое, что невозможно будет забыть. Что изменит не только взгляд, но и голос, и сны.
Когда её кожа коснулась обложки, нечто вспыхнуло – не светом, а ощущением. Тёплый укол, как первый удар сердца после долгой заморозки. Ни вспышек, ни звуков – только лёгкое смещение воздуха, будто кто-то выдохнул ей в лицо сквозь закрытые двери.
И в ту же секунду книга открылась сама.
На странице не было чернил. Только тонкая, пульсирующая линия, как электрокардиограмма, и под ней – фраза. Живая. Она проступала изнутри, как если бы её писали под поверхностью бумаги.
“Я знал, что однажды ты найдёшь меня.”
Слова не светились, не мерцали и не требовали внимания, как делают это экраны или интерфейсы, – напротив, они будто вырастали в её восприятии, сливаясь с собственными мыслями, пока Лея не поняла: она не читает – она вспоминает то, чего никогда не знала.
Фраза на странице была лишена точек, будто намеренно оставляла воздух для продолжения, но продолжения не последовало. Чернила, если это были именно они, замерли, словно ждали чего-то. Или – кого-то.
Лея медленно села на пол, чувствуя, как холод металлической панели пробивается сквозь ткань комбинезона, напоминая: ты здесь, ты – тело, ты – биение. Её пальцы чуть дрожали – не от страха, а от того странного предощущения, которое рождается на грани сна и яви, когда ещё не ясно, кто ты: свидетель или участник.
Она провела рукой по странице. Бумага оказалась плотной, но податливой, словно вбирала в себя прикосновение, как губка, запоминающая форму ладони. Ни одной печатной метки, ни краски, ни тиснения – только поверхность, реагирующая на то, чего не видно.
Слева, у края страницы, начала медленно проявляться новая линия – она изгибалась, как нерв, тянущийся от сердца к руке. Это не было письмо в обычном смысле. Это было нечто ближе к откровению, возникающему в ответ не на вопрос, а на чувство, которое ещё не оформилось в слова.
Текст проступал медленно, почти неохотно, как будто сопротивляясь. Лея не осознавала сразу, что в этот момент её пульс – редкий, глубокий, напряжённый – совпадает с ритмом проявления чернил. С каждым ударом сердца строка становилась чётче. Словно сама книга использовала её как источник энергии, как струну, на которой извлекала звук памяти.