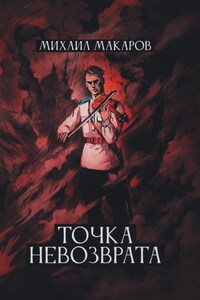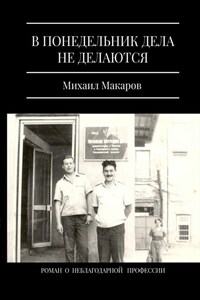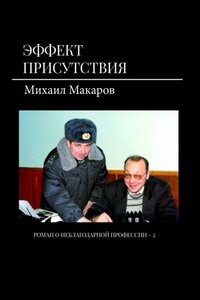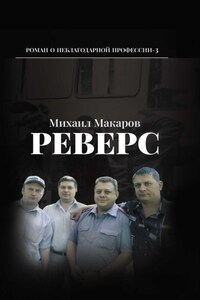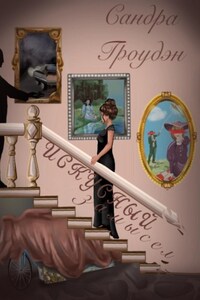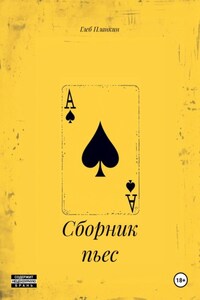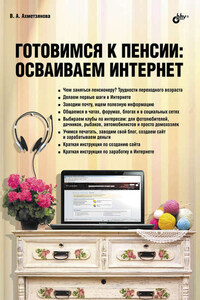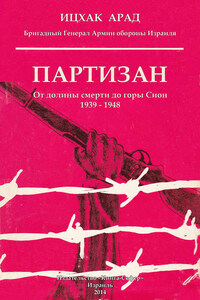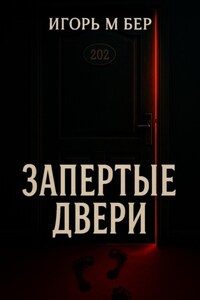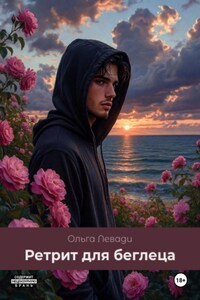20–21 января 1920 года
Село Батайск
Кавалерия генерала Барбовича стояла на обводе Батайска, по центру бригады – Сводно-гвардейский полк. Отсюда по кратчайшим векторам сподручно парировать попытки красных прорвать фронт на любом из его участков.
Регулярно форсируя замёрзший Дон, противник без устали наносил удары в разных направлениях. То атаковал Кулешовку, стремясь выбить из неё дроздовцев, то устремлялся дальше, на Азов, то кидался вправо, на станицу Ольгинскую, занятую донцами.
В каждом случае Сводно-гвардейский поднимался по тревоге, рысью выходил на исходную позицию, разворачивался в лаву (стройную, но, надо признать, довольно жиденькую) и после команд «Шашки вон! Пики на бедро!» галопом летел в атаку.
Практически всегда советские не принимали боя, пятились. С ликующими, от мороза румяными молодыми лицами, с песнями, любимой из которых была «Кудесник», гвардейцы победно возвращались на свой бивуак. Дружное «ура», троекратно выкрикиваемое ими «за царя, за Русь, за нашу веру» сделалось привычным и перестало резать слух тем добровольцам, что радели за республику. Вообще политические разночтения здесь, на краю гибельной пропасти, теряли смысл. Пришло осознание, что единственным непримиримым врагом являются большевики. Со всеми остальными силами, включая вздорных кубанских самостийников, можно и нужно было заключать союзы.
Носившуюся с одного угрожаемого участка на другой бригаду Барбовича соратники нарекли «пожарной командой», чем кавалеристы очень гордились. При этом гвардейцы были убеждены, что львиная доля заслуг принадлежит им, а не номерным полкам, собранным с бору по сосенке.
Гладко получалось не всегда. Раз гвардейская конница преследовала утекавших к переправам красных и нарвалась на фланговый пулемётный огонь с тачанок. Урон был понесён большущий. Эскадрон лейб-кирасир только убитыми потерял шестерых и столько же ранеными. Сразу четверть личного состава выбыла из строя!
Вместо того чтобы дать кирасирам прийти в себя, их перебросили на восточную окраину села, где позиции были особенно уязвимы из-за близости реки и нагой равнины, тянувшейся в сторону Ольгинской.
Каждодневно один взвод с офицером приходилось высылать на заброшенный хутор, венчавший правый фланг эскадрона, другой взвод следовало постоянно держать в полной боеготовности. Вдруг лобовая атака?
А ещё нужно было не забывать о зимней ковке лошадей, не напрасно же тыловики расстарались, выдали, наконец, подковы и ухнали[1]с шипами. Долгожданного снаряжения хватило, впрочем, лишь на ковку передних ног.
Одно к одному, некстати разболелся комэск Олешкович-Ясень. Температура подпрыгнула за отметку 40, в лёгких – бульканье, надсадные хрипы. Штаб-ротмистр лежал на печи, шинелью укрытый и кабардинской буркой, и всё равно его знобило. Всё пытался заснуть в надежде на чудесное избавление сном от хвори, ан не спалось, сознание мешкотно плыло по извивам дремотной реки, как за коряги цепляясь за внешние раздражители…
– Евге-ений Николаевич! Евгений Николаевич! – очередной проблеск разума вызвал настойчивый зов по имени-отчеству.
– Что? – штаб-ротмистр разлепил один глаз, надолго замолк, потом добавил с укором. – Что вам, Ника?
«Узнал… и как зовут помню… хорош-шо», – коркой обмётанные губы съёжились в подобии улыбки.
Ника, корнет Максимов, тренькая шпорами, привстал на цыпочки, преданно заглядывал в пылающее лицо командира.
– Тут, Евгений Николаевич, через Дон к нам перебежала одна. Мой разъезд её подобрал. Да, она сейчас сама объяснит. Покажись, наяда[2], господину ротмистру.
В грязно-оранжевый конус света, что отбрасывала висящая на крюку, вбитом в потолочную балку, керосиновая лампа с помятым жестяным абажуром, вступила растрёпанная женщина в английской шинельке. Броская примета – высокие горделиво очерченные скулы. Угловатое личико сметаны белее, оттого особенно контрастными кажутся коричневые конопушки на переносье. Круглы, желты и настороженны глаза, абсолютно совиные – таращатся под вздёрнутыми дужками бровей, мигать не умеют.