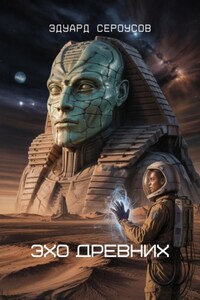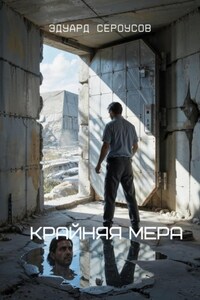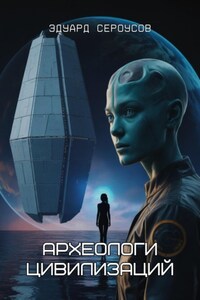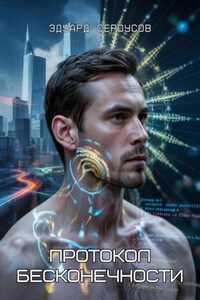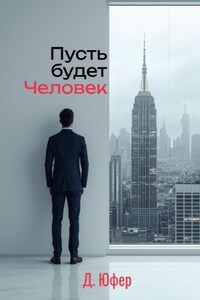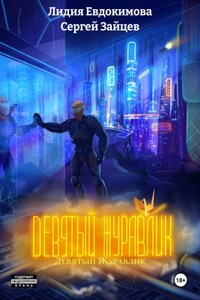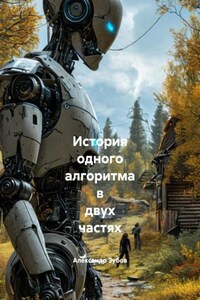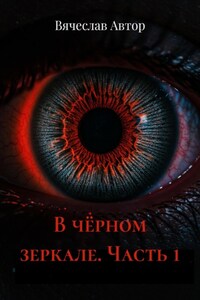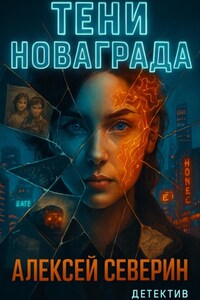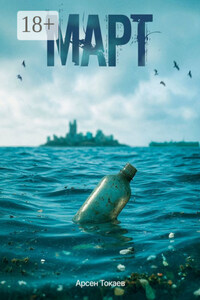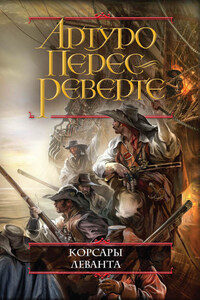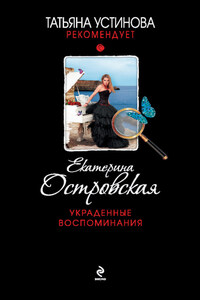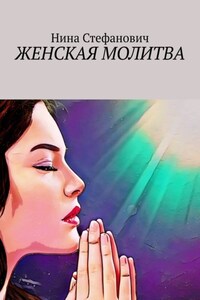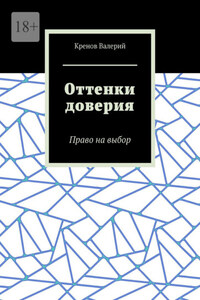Глава 1: Эхо слов
Мужчина средних лет стоял у окна, наблюдая за потоком студентов, стекавшихся к аудитории. Его отражение в стекле показывало усталое лицо с трехдневной щетиной и пронзительными серыми глазами. Алекс Вербин. Или, как он представлялся последние пять лет – профессор лингвистики Александр Вербицкий. Университет Нижнего Города был идеальным местом, чтобы затеряться. Достаточно престижный, чтобы оправдать его знания, но не настолько заметный, чтобы привлекать внимание "ЛогоТех".
Он поморщился, почувствовав знакомое покалывание в висках – признак надвигающегося приступа семантического отторжения. В этот раз было слово "безопасность". Каждый раз, когда он пытался сформулировать эту концепцию, его мозг словно натыкался на глухую стену. Побочный эффект десяти лет службы в лингвистических войсках. Слишком много боевых конструкций, пропущенных через сознание.
Алекс сжал переносицу и сосредоточился на дыхании, используя технику, которую разработал за годы борьбы с этим профессиональным заболеванием. Подобрал синонимы. Защита. Охрана. Гарантия. Обход по семантическому полю помогал преодолеть блокировку.
Звонок прервал его упражнение. Пора было начинать лекцию.
– Сегодня мы поговорим о гипотезе лингвистической относительности Сапира-Уорфа, – начал Алекс, окидывая взглядом аудиторию. – До Великого Открытия это была всего лишь гипотеза, предполагавшая, что язык влияет на мышление. Сейчас мы знаем, что это фундаментальный закон нашей вселенной.
Большинство студентов уже отключилось, погрузившись в свои нейроинтерфейсы. Лишь несколько пар глаз следили за ним с неподдельным интересом. Среди них – Марк Словецкий, худощавый парень с растрепанными темными волосами. Один из немногих, кто еще пользовался бумажными блокнотами. Идеалист.
– Профессор, – Марк поднял руку, – а правда, что до открытия Феномена языковые паттерны уже изменяли реальность, просто люди не осознавали этого?
Алекс улыбнулся. Этот парень напоминал ему себя в молодости – до того, как он узнал, как глубоко кроличья нора на самом деле.
– Отличный вопрос, Марк. Есть свидетельства, что некоторые древние культуры интуитивно понимали связь между словами и реальностью. Возьмем, например…
Он замолчал, заметив, что Марк внезапно застыл, уставившись в одну точку. Его рука, держащая ручку, дрожала, а на лице отразилась внезапная пустота.
– Марк? – Алекс подошел к студенту. – Вы в порядке?
Марк моргнул несколько раз, затем посмотрел на Алекса с явным замешательством.
– Я… я не понимаю, что такое… – он замолчал, нахмурившись, словно пытаясь вспомнить забытое слово.
– Что такое что, Марк?
– Я не знаю, как это называется. Вещь, которая… в которой мы сейчас находимся. Где люди… учатся.
Холодок пробежал по спине Алекса. Он знал эти симптомы слишком хорошо.
– Университет? Аудитория?
Марк покачал головой.
– Нет, это… более общее понятие. Про… про знания.
– Образование? – тихо спросил Алекс, уже понимая, что происходит.
– Да! – с облегчением выдохнул Марк. – Я не мог вспомнить это слово. Как будто оно исчезло из моей головы.
Классический случай семантического отторжения. Но это было невозможно. Болезнь поражала только людей, непосредственно работающих с лингвистическими технологиями. Студент не мог просто так…
– Лекция окончена, – объявил Алекс, не сводя глаз с Марка. – Задание вы найдете в системе. Марк, останьтесь, пожалуйста.
Когда аудитория опустела, Алекс закрыл дверь и активировал карманный глушитель семантических полей – нелегальное устройство, оставшееся со времен его службы.
– Где ты был вчера, Марк?
Студент выглядел растерянным.
– Я… я не помню. После занятий я собирался в библиотеку, а потом… – он потер виски. – Потом я проснулся сегодня утром в своей комнате. Голова раскалывалась.