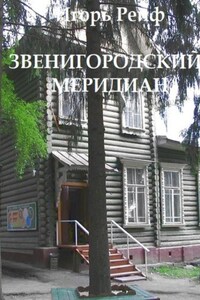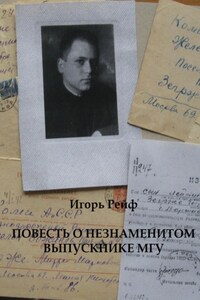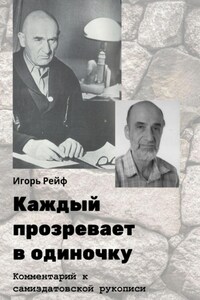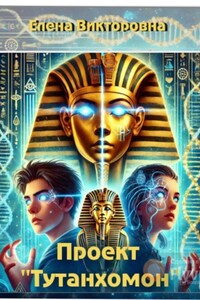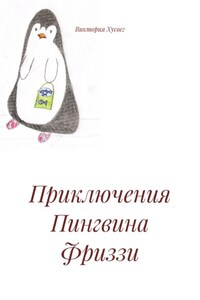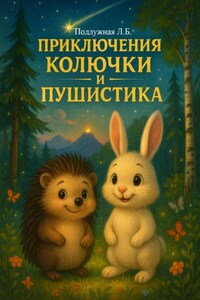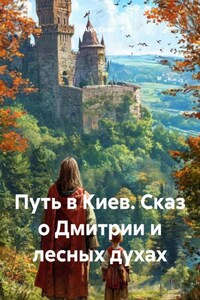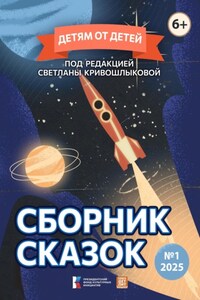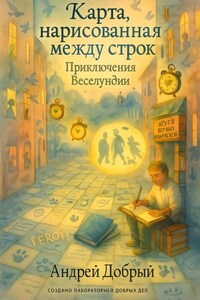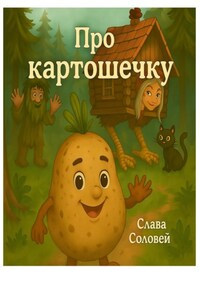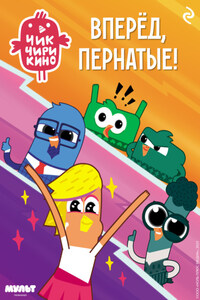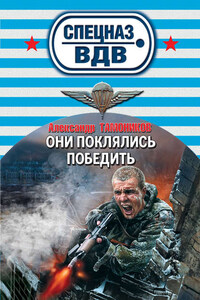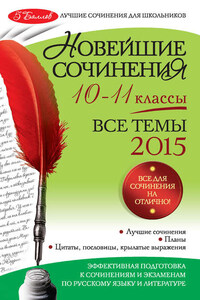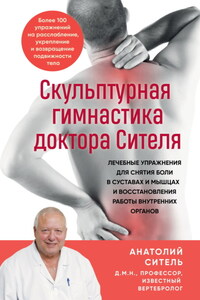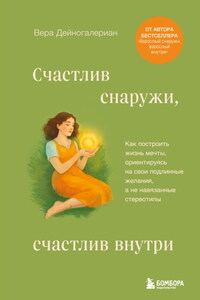Не трудно догадаться, что слова, вынесенные в заголовок этого очерка, означают почтовый адрес. Но адреса бывают разные. Некоторые известны каждому. Набережная Мойки, 12 – последняя квартира Пушкина, откуда он уехал на свой роковой поединок с Дантесом и куда его, смертельно раненого, внёс на руках его крепостной дядька Никита Козлов. Или Набережная Фонтанки, 34, так называемый Фонтанный дом, музей-квартира Анны Ахматовой, где она прожила почти 30 лет с перерывом на эвакуацию и периодические наезды в Москву. Здесь сочинялись (и тут же сжигались) строки её подпольного «Реквиема». Здесь встретила она печально известное постановление ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград», где по высочайшему повелению была она отлучена от российской словесности вместе со своим собратом по несчастью Михаилом Зощенко.
Но есть адреса, которые говорят сердцу обитателя только данного конкретного дома, пусть даже навсегда его покинувшего и возвращающегося сюда только в своих снах. Так же и моя Малая Никитская с её Храмом Вознесения, в котором венчался Пушкин, с домом-музеем Горького, его «золотой клеткой», в самом её начале, где он доживал свои дни под надзором органов безопасности, а также особняком Берии в её конце, которого я один раз сподобился увидеть в сопровождении эскорта охраны прогуливающимся по соседнему Гранатному переулку, и домом с аптекой под № 16 как раз посередине. Это и есть моя «малая родина». Отсюда я, трёхлетним, был увезён в начале войны в эвакуацию и возвращён через год обратно, и потом, уже взрослым, не раз уезжал и возвращался в этот дом, пока на 60-м году жизни не покинул его насовсем. Но всё-таки дом был не совсем обыкновенный, и поскольку он не раз ещё будет фигурировать на этих страницах, есть смысл рассказать о нём поподробнее.
Начать с того, что в его угловом девятом подъезде, где обитала и наша семья, на последнем этаже жил перед войной старший, нелюбимый, сын Сталина Яков Джугашвили. Несмотря на заоблачный статус своего отца, был он скромен, держался незаметно, обходился без охраны и оставил у жильцов дома самое благоприятное впечатление. Уже из этого видно, что дом был не рядовой, хоть и не чета «Дому на набережной» или дому №3 по ул. Грановского (ныне Романов пер.). Там проживал цвет партийно-государственной элиты, здесь же селилась сошка помельче, главным образом из обслуги или родни этой элиты: личный шофёр Маленкова, домработница Ленина, сестра «всесоюзного старосты» Калинина и т.д. А хозяином дома являлся Верховный Совет в лице его Хозяйственного управления.
Ну, а мы-то как оказались в этом «заповеднике»? Ведь мой отец ни с какого бока не имел отношения к номенклатуре, да к тому же был ещё и беспартийным. Но, будучи молодым специалистом, он в начале 1930-х гг. какое-то время проработал в Госплане, и это позволило ему вступить в кооператив «Кремлёвский работник», когда дом существовал лишь в проекте. Конечно, Госплан не Кремль. Но кремлёвские небожители получали свои квартиры бесплатно (они считались служебными), а тут, как ни верти, дом возводился на средства пайщиков, не исключая и сына Сталина. И так были выстроены его 1-й и 2-й корпуса. А когда дошла очередь до третьего, выходившего фасадом на Малую Никитскую, должностные лица в аппарате Верховного Совета заволновались. Место-то какое, тихий центр, раньше, говорят, здесь был вишнёвый сад, и как же было не прибрать такое место к рукам?
И вот этот последний корпус строился уже на государственные средства и строился с размахом. Широкие лестничные проёмы, высокие потолки, фасад с декоративной отделкой и портиком, да и метраж квартир соответствующий. И чего там только не было в этих квартирах. И встроенные шкафы, и лоджии, и даже система централизованной подачи холода (бытовые холодильники были в ту пору ещё в диковинку) – новация, так и оставшаяся почему-то нереализованной. А когда корпус был достроен, на выходе со двора была установлена будка, где сменявшие друг друга вахтёры зорко следили за тем, чтобы в дом не проник никто из посторонних.