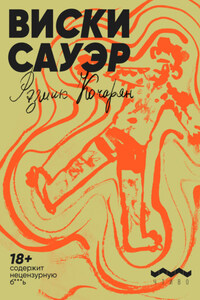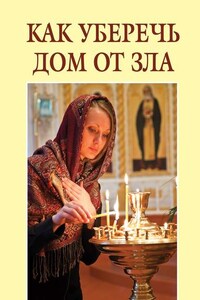Саша
1.
У меня большие ноги, неудобные. У меня большие глаза и большие ноги. Я бы согласилась чуть уменьшить глаза, если б от этого уменьшились и ноги. А так мне всё время что-то мешает шагать. Идти, как она, виляя бёдрами, на несравненных шпильках и слышать вслед со всех улиц «улю-лю-лю»… И от этого приплясывать, и чувствовать, как мир партнёрски ведёт тебя в ритме какого-то отрепетированного танго, прижимает, когда надо, отбрасывает, когда надо, и, главное – выбрасывает только в выгодном направлении! Да! Казалось, со страстной щедростью мир одаривал её мужчинами для танцев в красной помаде. А также: мужчинами с терракотовыми пиджаками «с Милану», мужчинами с побрякушками «с Ирану» и ещё такими мужиками, что поселили её в центре города, в квартире с потолками, где не пришлось бы сутулиться и великану.
Я точно не помню, когда Нина взяла всю ответственность за наше существование на себя. Наверное, в тот день, когда мы проели мои последние деньги. Я помню лишь, как она сказала:
– Такие, как ты, не выживают, а жаль…
И потом:
– Не парься ты из-за этой своей работёнки. Звезда с какого-то подвала… Ну что ты, в самом деле?! Какие-то дяди над тобой насмехались просто. Молодец, что ушла. Ты хотела, чтоб они уничтожили в тебе что-то волшебное?
– Что-то волшебное нельзя уничтожить, – ответила я ей.
– Ты уверена?
– Я ни в чём не уверена. Никто не знает, как жить.
– Глупости! – усмехнулась она тогда.
Тогда, в день нашей встречи, я уволилась с работы и пошла за ней. Попёрлась, как за кроликом из «Матрицы», за которым необходимо было следовать. И красная с синей таблеточки для меня были уже наготове. Нет, я не настолько фриковата, что верю во всякую судьбоносную всячину. Я сама однажды показалась одной малолетней наркоманке той самой, за которой она пойдёт, и всё станет другим. Ну, мне, может, и хотелось стать для неё Морфеусом и спасти её из Матрицы, где правит амфетамин, но через час я сообщила ей: «Да ты конченая». А наркоманка мне: «Так имей сострадание», – и ушла в темноту дворов. В общем, я поимела с неё мысли о сострадании, а она с меня – пятьсот рэ на дозу. Вот так вот, никакого вам чуда.
Я работала тогда в захудалом, но достаточно посещаемом театре – благодаря своим вкусным капустникам. А впоследствии – тому, что толстопузые его владельцы перенесли место действия со сцены в буфет. Кто хотел хлеба и зрелищ – столовался у нас. Мне нравились эти перемены в театре, потому что вместо ерунды какой-то… мы стали ставить Шекспира. Наш креативный директор посчитал, что под коньяк и холодные закуски лучше подавать Шекспира. И мы не спорили. Так и не разбогатев со студенческих времён, мы не разбирались, что к чему подают… Так тогда было.
Сейчас же я иду за Ниной и уже знаю, что не по этикету это – черпать Шекспира ложкой для борща.
– Теперь у меня нет ни семьи, ни работы, – говорю я ей.
– Ну и чё? Научилась говорить себе правду? – спрашивает она.
– Видимо, да.
– Никто так не делает.
– Что?!
– Никто не говорит себе правду, прежде не научившись себе врать… Найди себе мужика и работу, а пока – наври себе что-нибудь.
– Ну что мне себе наврать?
– Ну, например… как это делается. Наври хотя бы так: ты, типа, ждёшь своего принца и ищешь себя…
– Я жду и ищу… Так это тоже правда.
– А-ха-ха-ха! Тоже правда – это не считается. Понимаешь? В «тоже правде» можно всю жизнь прожить. Видела этих навранных людей? Один наврал себе, что добр и смел, и думает, будто это тоже правда. Другая сказала себе, что особенная. Третий считает, что он добропорядочный семьянин. Четвёртый не отказывает себе в благородстве. Пятый обнаруживает в себе никому не нужного гения. Но на самом деле они не знают себя. И их полно… Целый навранный мир. Люди – это плохая музыка, их песни фальшивы.