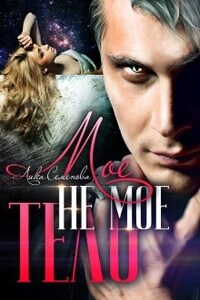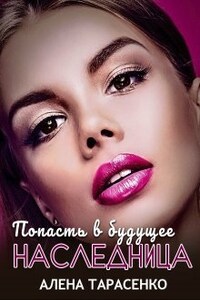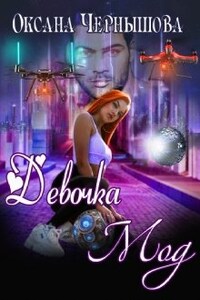Миранда уже не кричала. Из соседнего помещения доносились лишь
голоса солдат, характерные скрипы и сдавленные стоны время от
времени. Будто сквозь сжатые зубы.
Я обхватила колени заледеневшими руками, которые уже не
чувствовала, и сжалась еще сильнее. Мне так казалось. На деле
ничего не изменилось — я одеревенела. Остальные тоже. Мы сидели на
полу камеры, вдоль стен. Молчали, не смотрели друг на друга. Только
в углу бесконечно рыдала девчонка с тугой черной косой. Не помню ее
имени. Кажется, Брижит. Впрочем, какая разница. Лучше не знать
имен, потому что имена сближали. Мы не должны сближаться — так
становится только больнее. Каждый сам за себя.
Они приходили, когда вздумается. Когда приспичит. Обычно, кто-то
из младших офицеров и двое рядовых в синих кителях. Когда со
скрипом открывалась решетчатая дверь нашей камеры, все внутри
обрывалось. Умирало снова и снова. Съеживалось, как тельце
потревоженной улитки. Но не было раковины, в которую можно было бы
спрятаться. Офицер шарил взглядом по нашим опущенным головам,
принюхивался, поводя носом, как собака, и просто показывал пальцем.
Одним из шести. Тот, кого уводили солдаты, больше не
возвращался.
Я постоянно думала о том, что с ними было потом. Хотелось
верить, что они оставались живы. Знала, что не стоит думать, потому
что эти мысли уничтожали, ослабляли. Но я вновь и вновь с каким-то
больным мазохизмом гоняла их в голове, будто от них что-то
зависело. На деле — не зависело ничего. Я просто обреченно ждала,
когда выберут меня. А меня выберут рано или поздно. Нас осталось
двенадцать. А вчера было четырнадцать. Неделю назад —
девятнадцать.
Нас перехватили по дороге в Ортенд. Случайно или кто-то сдал.
Уже не важно. Мужчин и пожилых женщин перестреляли. Оставили только
молодых, для развлечения. И то ненадолго. Кормить нас месяцами
никто не намеревался. Все голодали. Даже виссараты. Так говорили.
Впрочем, никто не верил. Особенно, чуя запахи еды, которые
частенько доносились из коридора. Мы захлебывались слюной, желудки
сворачивались в узел.
Когда скрипнула дверь камеры, я вздрогнула, едва не ударилась
затылком о стену. Они вошли. Снова трое. Офицерские сапоги было
видно сразу: из черной кожи, с множеством ремней и глянцевых
пряжек.
— Все встали и построились в коридоре.
Они говорили с едва заметным жестким акцентом, и это казалось
еще отвратительнее. Будто присвоили и наш язык, будто издевались.
Никто не шелохнулся. Мы лишь завозились и опасливо переглядывались,
застывая от ужаса. Несколько часов назад они забрали Миранду.
Неужели, опять?
Двух первых девушек выволокли за волосы. Тех, которые сидели
ближе всех. Остальные не стали дожидаться и вышли гуськом, опустив
головы. Как тупые овцы. И я шла, как овца, но выбора просто не
было. Нас расставили вдоль решеток шеренгой. Велели выпрямиться.
Едва ли может быть что-то хуже того, что они делают обычно, но
сейчас было еще страшнее. В жизни не было так страшно. Даже тогда,
когда я бежала в овраг, надеясь спрятаться, а ноги мгновенно обвило
пущенное виссаратом прицельное лассо. Короткий миг падения казался
самым невыносимым. Жаль, я не ударилась лицом — была бы
уродливой.
Я смотрела на свои башмаки. Новые они были красивые. Из рыжей
тисненой кожи, с камнями на ремешках. Теперь камни вывалились, я
видела заляпанные грязью истертые носы, а в подошве правого давно
была дыра. Я любила красивую хорошую обувь. Там, в прошлой жизни.
До войны.
Повисла удушающая гнетущая тишина. Я чувствовала, как солдаты
напряглись. Ожидание повисло в воздухе. Тягучее, как застарелая
вода. А потом шаги. Неторопливые, размеренные. Тяжелые. Я стояла в
хвосте шеренги. Не выдержала, подняла голову. Офицер-виссарат в
коротком сером кителе, шитом серебром, длиннополом черном плаще и
высоких сапогах с металлическими вставками. В руках он покручивал
короткую трость с серебристым навершием в виде сжатого шестипалого
кулака.