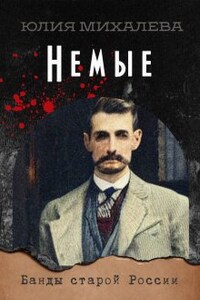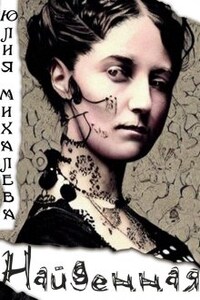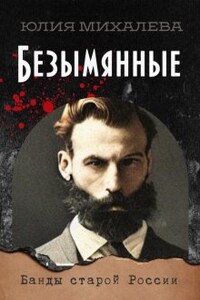Российская империя, 1916
год
Понедельник,
5
сентября
Четыре тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать…
Часы из слоновой кости утонули в луже свежих чернил. Это даже
хорошо, что чернильница была полна до краев. Осталось, во что
окунуть перо. Но ручка бы сейчас пришлась больше кстати.
Консерватизм порой осложняет жизнь.
Перешагнув через разбитую стенку, перо вернулось на лист бумаги,
под который подложена толстая книга. «Русское масонство» Пыпина.
Свежая, не все страницы разрезаны. Лишь несколько месяцев назад
покинула типографию в Петрограде, как уже два года зовется
столица.
Книгой пришлось пожертвовать, позволить черному озеру поглотить
ее.
Главное теперь – просто успеть.
Проклятая привычка откладывать самое важное на потом! «Потом»
может никогда не настать. Или ударить слишком внезапно. Неизвестно,
что лучше.
Непроизвольный вздох – глубокий, громкий. Перепачканный
чернилами рукав замер в воздухе. Пальцы другой руки машинально
подвернули его, и через миг перо вновь закружило. Почерк – мелкий,
быстрый. Нечеткий – в отличие от надписи на коже, что стала теперь
видна. Начинаясь у основания мизинца, она шла до самого локтя.
«的伎俩的生活是死去的年轻的» – «Хитрость жизни в том, чтобы умереть
молодым».
Зазубрина на пере споткнулась о соринку, попавшую под бумагу.
Рука дернулась – но поздно: клякса уже ползла, поедая
написанное.
Черт! Пальцы скомкали лист, отшвырнули в угол. Быстро достали из
ящика стола другой – и замерли.
Знакомый шорох за дверью. Словно старая собака процокала по
паркету отросшими когтями, которые давно перестали стачиваться.
Сейчас она примется скрестись в дверь, потом додумается толкнуть и
войдет, зевая…
Но ее больше нет.
Рука с иероглифами снова взялась за перо и принялась выводить
торопливые буквы.
***
Угрюмый, рослый для своих семи-восьми лет черноволосый мальчишка
смотрел исподлобья. Тяжело, не по-детски.
– Уверяю – такого больше не повторится, – дама налегла пышной
грудью на стол, обдав приторными духами.
Показалась темная родинка. Директор гимназии непроизвольно
задержал на ней взгляд, но тут же отдернул, перевел на лицо.
Смазливое, одутловатое. Молодое – чуть за двадцать. Светлые глаза
нездорово блестели.
Определяя ребенка в класс, дама сказала, что приходится ему
мачехой.
– Что с того, что Петя не говорит? Он очень умный: умеет и
читать, и считать, и писать. Я сама его обучала, – убеждала она при
первом визите. – Вдобавок, мальчик отлично слышит. Он точно не
причинит вам хлопот.
Тогда директор кивнул, подумав, что сложностей с ним будет
немало и отнюдь не из-за физического дефекта. Не ошибся.
– Напомню, Софья Ивановна, что даже драка между воспитанниками
не одобряется в этих стенах. Мы же ведем речь о событии, выходящем
за все возможные рамки. Еще никто в нашей гимназии не осмеливался
поднять руку на учителя.
Посетительница вздохнула.
В иных обстоятельствах ребенка бы немедленно и без раздумий
отчислили. Однако директор делать этого не собирался.
Во-первых, дама не только сразу оплатила весь год, но и щедро
пожертвовала, намекнув на дальнейшую доброту. Исключение влекло
потерю многолетней прибыли, а с тех пор, как гимназия перестала
состоять на городском балансе, разбрасываться обеспеченными
учениками стало особенно неразумно.
Во-вторых, хотя лежавшие на столе бумаги и говорили, что
мальчишка – сын купца-оружейника, директор верил не им, а молве. А
та советовала не углубляться в биографию нового гимназиста и не
искать знакомства с его отцом.
Так что нынешний разговор велся лишь потому, что просто не мог
не состояться. Директор произносил положенные слова, не особо
рассчитывая на эффект.
– Ну-с, как вы объясните свой поступок, молодой человек?
Вопрос всегда звучал так сурово, что даже самые проблемные
ученики молча упирали глаза в пол. Но только не этот. Немой явно не
считал себя виноватым. Нахмурившись, он показал на линейку на
директорском столе, затем на свою ладонь. Все верно: учитель ударил
его по пальцам за очередную провинность. Обычное дело. Без муки нет
и науки, и еще никому не приходило в голову оспаривать вековую
мудрость.