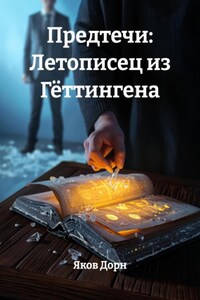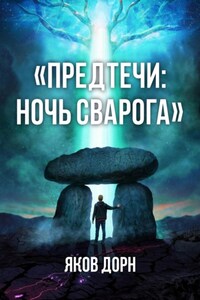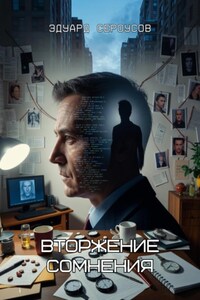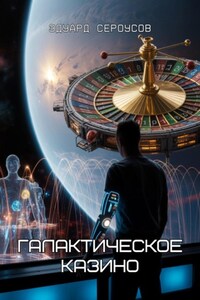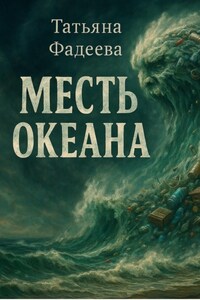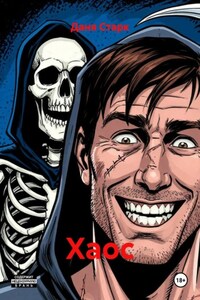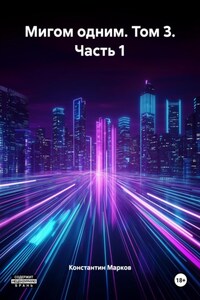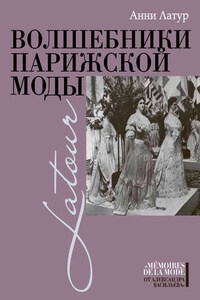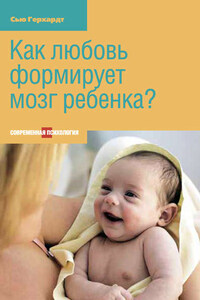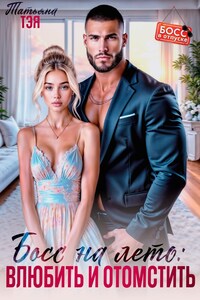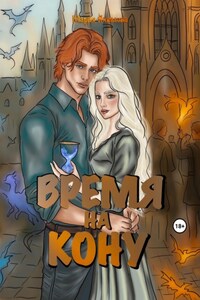Заседание кафедры древней истории проходило в старой аудитории с высокими, почти церковными стрельчатыми окнами. Сквозь мутные, веками не мытые стёкла пробивался бледный ноябрьский свет, который, казалось, тонул в густой, как патока, академической атмосфере. Воздух здесь всегда был одинаковым – тяжёлый коктейль из запахов полироли для массивных дубовых панелей, пыли от тысяч никогда не открывавшихся фолиантов и остывшего, горького кофе из университетской столовой. Но сегодня для Клауса Рихтера, тридцатидвухлетнего доцента, этот воздух был другим. Он был разреженным, как перед грозой. Он звенел от напряжения.
Он только что закончил свой доклад. Десять минут, которые должны были стать его заявкой, его манифестом, его первым шагом к настоящей, большой науке. Десять минут, в которые он вложил два года бессонных ночей, сотни часов в архивах и всё своё сердце. Он изложил суть своей статьи: гипотезу о существовании единого праязыка как доказательства существования глобальной, высокоразвитой протоцивилизации.
И теперь в аудитории висела тишина. Не почтительная. Не задумчивая. А тяжёлая, вязкая, осуждающая. Десяток его коллег, от убелённых сединами профессоров до таких же молодых доцентов, как он сам, сидели за длинным, покрытым зелёным сукном столом. И никто не смотрел на него. Доктор Мюллер, специалист по Римской империи, скрупулёзно изучал узор на своём галстуке. Фрау Грюнвальд, эксперт по эллинизму, с преувеличенным интересом листала свой ежедневник. Остальные просто смотрели в стол, словно на полированной поверхности можно было найти ответы на все вопросы бытия. Их молчание было громче любых криков.
Первым его нарушил профессор Эберхардт. Его научный руководитель. Человек, которого Клаус уважал до благоговения, чьи книги по историографии он читал ещё студентом, заучивая целые абзацы наизусть. Эберхардт был для него воплощением настоящего Учёного – мудрого, смелого, ироничного.
Профессор снял свои старомодные круглые очки, медленно извлёк из нагрудного кармана белоснежный платок и принялся их протирать. Этот ритуал, обычно успокаивающий, сейчас выглядел как подготовка палача к экзекуции. Наконец, он водрузил очки на нос и посмотрел на Клауса. Его взгляд, обычно такой тёплый и живой, стал холодным и непроницаемым, как у хирурга, смотрящего на рентгеновский снимок.
– Клаус, – начал он, и его голос, лишённый привычных отеческих интонаций, прозвучал в мёртвой тишине аудитории сухо и официально. – Мы все, безусловно, ценим твой энтузиазм. Твой, без сомнения, неординарный ум. Но то, что мы услышали сейчас…
Он сделал театральную паузу, обводя взглядом присутствующих, словно призывая их в свидетели неизбежного.
– Клаус, мы историки, а не писатели-фантасты.
Слово «фантасты» ударило наотмашь, как пощёчина. Клаус почувствовал, как горячая волна стыда и гнева поднялась от груди к лицу. Он открыл рот, чтобы возразить, чтобы крикнуть, что это не фантазии, что у него есть доказательства, сотни совпадений, которые не могут быть случайностью… Но Эберхардт остановил его едва заметным движением руки.
– Ваши гипотезы элегантны, но бездоказательны, – продолжил профессор, перейдя на холодное «вы», окончательно отрезая Клауса от круга «своих». – Вы, как историк, вторгаетесь на чужую территорию, в лингвистику, и делаете выводы вселенского масштаба на основе случайных совпадений. Параллели между Критом и Сибирью? Это дилетантство, мой мальчик. Поэзия, а не наука. Красивая метафора, не более.
Клаус смотрел на своего учителя, и в его сознании не укладывалось происходящее. Этот человек… он же сам видел его черновики. Он сам говорил: «Копай глубже, Клаус! Не бойся задавать неудобные вопросы!». Что же изменилось?