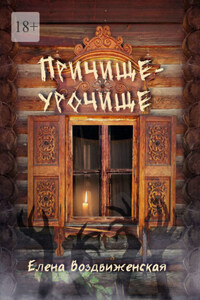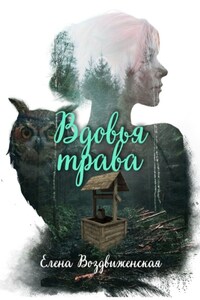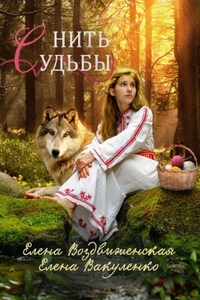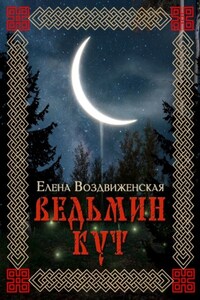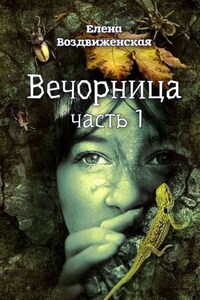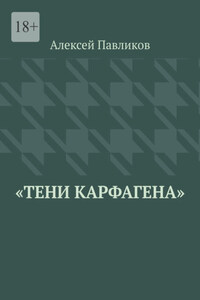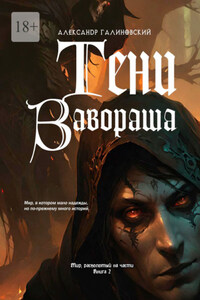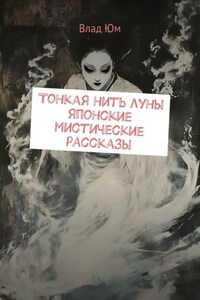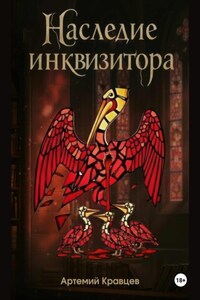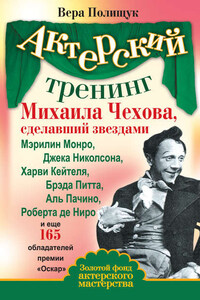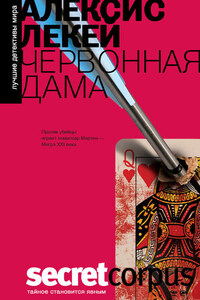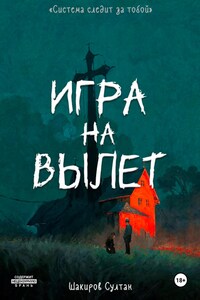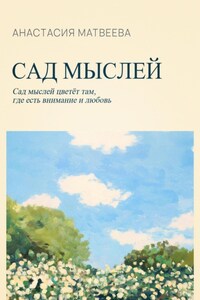1955 год.
– Причище-урочище, чудище-страшилище, наречённые да безымянные, дневные, ночные, полуночные… С ветра пришли на ветер уйдите, за леса тёмные, за болота топкие, за моря глыбокие, за поля широкие…
Яркий огонёк пламени вспыхивал на мгновение в потёмках, озаряя бледное пятно лица с бисеринками пота на лбу и над верхней губой, и тут же угасал, с шипением падая в воду и оставляя после себя горьковатый привкус дыма в воздухе. Бабушка с плошкой в руках ходила вокруг табурета, на котором сидел местный парень, Пашка Сивцов, что жил с молодой женой у самого Апрашкина лога, и, приговаривая слова заговора, зажигала спичку за спичкой, бросая их в плошку с водой, где они тут же потухали.
Вода была особая – колодезная, но с добавкой – несколькими каплями из большой бутыли, в которой хранилась «мёртва вода», как называла её бабушка. Была ещё и «жива вода», в другой бутыли. Трогать их Варе запрещалось. «Неча бедолажить, без спросу ничаво не трожь, всяка вещь для чего-то уготована, без пониманья можно и дел натворить». И Варя слушалась бабушку, не трогала, хотя было ей уже двенадцать лет. Сейчас она, сидя на печи, внимательно наблюдала за бабушкиной работой, и с жадностью ловила каждое слово, каждое движение. Она мечтала научиться этой науке и тоже помогать людям. Бабушка казалась ей особенной, кем-то вроде проводника между тем и этим миром. Многое она знала, умела, но не распространялась об этом. Времена нынче не те… Сарафанное радио передаёт о таких людях и их умении из уст в уста, а сами о себе они не рассказывают. Напротив – стараются скрывать способности.
Младенчик на руках у Пашки, его новорожденный сын, получасом ранее изгибавшийся дугой и оравший дурниной до посинения, сейчас уже даже не плакал, а только сипел и стонал, изревевшись до бессилья. Губки его дрожали, на ресничках поблёскивали слезинки, а крохотные ручки и ножки подёргивались. Варя, наблюдавшая с печи, хорошо видела происходящее внизу.
– Всё, всё, дитятко, теперь полегчает тебе, миленькой, – склонилась к дитю бабушка и, набрав в рот воды из той самой плошки, в которой плавали двенадцать спичек, шумно фыркнула прямо в личико младенчику, окатив того брызгами. Вопреки Вариному страху, младенчик не закричал вновь, а напротив – окончательно успокоился, обмяк и тут же уснул. Пашка, молодой отец, неуклюже поправил пелёнку, расстеленную на коленях, прикрыв ею сына. Тот зачмокал губёшками. Бабушка зачерпнула пригоршней воды из плошки и омыла личико младенца, ручки, ножки и грудку.
– Кады проснётся, а спать он будет долго, накорми его, – обернулась бабушка к матери мальчонки.
Аринка сидела в углу и с испугом таращилась на мужа, в глазах её застыли слёзы.
– Хорошо, бабушка, – кивнула она, – А Максимка так плакать больше не станет? Вы его насовсем излечили?
– Коли совета мово послушаешь, дак не станет, – ответила бабушка, – Ты почто пелёнки на ночь во дворе вешала?
– Так как же?… На просушку…
Аринка непонимающе глядела на бабушку, хлопая ресницами.
– Паша-то вот с работы поздно вернулся, а у меня целый таз пелёнок замочен. Я ему Максимку оставила, да сама стирать скорее. Как постирала, развесила во дворе, аккурат, думаю, к утру-то и высохнут. Будет у меня на день запас.
– В другой раз на веранде вешай, али в сенцах, – ответила бабушка, – Вот с теми пелёнками ты и притащила в избу криксу.
– Кого-о-о? – протянула Аришка, – Крысу-у-у?
– Не крысу, а криксу-вараксу, – терпеливо объяснила бабушка, – Эта шушера по ночам рыщут, жильё себе ищут, где детки есть малые, да ишшо некрещёные. Прицепится такая к ребёночку и питается. Сладко ей, хорошо. До того дитё извести может, что то вовсе обессилит, да и помрёт. Опасливо в тёмное время с младенчиком. Глаз да глаз нужен. Оттого и говорят старики: из дому дитё в сумерках не выносить, покуда не окрестили, пелёнки его на ночь во дворе не оставлять, одного в избе без пригляду не бросать, свет на ночь не гасить. А ты сама и притащила в дом сущность поганую.