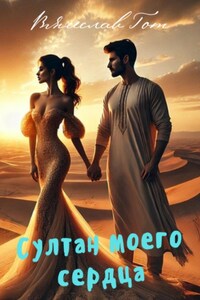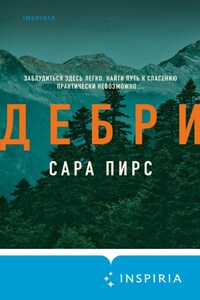ПРОЛОГ: ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ВЕДЬМЫ
(Несколько лет до начала действия – Париж, 1341 год, Гревская площадь)
Воздух над Парижем дрожал – не от зноя, не от ветра, а от страха. Тысячи глаз, как один, были устремлены к центру площади Грев, где под чёрным небом, затянутым дымом и тучами, возвышался костёр. Не праздничный, не ритуальный – карательный. Огромный, сложенный из дубовых брёвен, пропитанных смолой, с железными цепями, вмурованными в землю. На нём стояла женщина.
Она не кричала. Не молилась. Не просила пощады.
Её руки были связаны за спиной грубой пеньковой верёвкой, но плечи – расправлены, как у королевы на троне. Её длинные, иссиня-чёрные волосы, не тронутые ножницами палача, развевались на ветру, будто живые змеи, охраняющие её тайну. На ней не было роскошных одежд – лишь простая льняная рубаха, испачканная грязью темницы, но даже в ней она выглядела так, будто сошла с фрески древнего собора – величественная, неприступная, полная мрачного достоинства.
Элоиза де Монвер.
Имя, что шептали теперь только в страхе. Имя, что стёрли из хроник, выжгли из памятных книг, вычеркнули из молитв. Но имя, что не умирало – оно жило в шёпоте слуг, в кошмарах детей, в дрожащих руках священников, осеняющих себя крестом перед сном.
Сегодня её сожгут. По приказу короля. По обвинению в колдовстве, в насылании чумы на скот, в отравлении колодцев, в связи с нечистой силой. Всё ложь. Всё удобная ширма. Истинная причина – другая. Она знала слишком много. Знала, кто на самом деле стоит за смертью королевы. Кто подменил завещание. Кто подсунул фальшивую грамоту о браке. Кто убил наследника, чтобы трон достался младшему брату. Она знала – и не молчала. А в те времена, когда трон дрожал, а церковь служила не Богу, а короне, – знать правду было смертельно. Говорить её – безумие. Пытаться доказать – самоубийство.
Но Элоиза не боялась смерти.
Она боялась только одного – чтобы правда умерла вместе с ней.
На возвышении, под балдахином из пурпурного бархата, сидел король Филипп VI Валуа – тридцати пяти лет от роду, в расцвете сил, с лицом, выточенным из мрамора гордыни. Его корона сверкала даже под тусклым небом, его взгляд был холоден, как зимний ветер в Альпах. Он не смотрел на неё. Он смотрел мимо. Как будто то, что происходило внизу, было не казнью, а театральной постановкой. Как будто кровь, которая вот-вот прольётся, была не человеческой, а театральной краской.
Рядом с ним – его ближайшие советники: кардинал Этьен де Монлюи, чьи пухлые пальцы теребили чётки, но глаза жадно следили за костром; герцог Орлеанский, жующий вяленое мясо, будто на пиру; канцлер Пьер де Клермон, записывающий каждое слово – не для истории, а для архивов страха.
А чуть поодаль, почти в тени – королева Жанна, молодая, бледная, с глазами, полными слёз. Она не хотела этого. Она просила пощадить. Но её голос был слаб против грома королевской воли. И против страха – страха перед женщиной, которая могла одним взглядом заставить лошадь встать на дыбы, а свечу – погаснуть без ветра.
– В последний раз! – крикнул палач, высокий, с лицом, изуродованным оспой. – Откажись от дьявола! Признай свою вину! И Господь помилует твою душу!
Элоиза медленно повернула голову. Её губы, потрескавшиеся от холода и жажды, дрогнули. И тогда она заговорила. Голос её не был громким, но пронёсся над площадью, как колокольный звон в час смерти – чистый, ледяной, неумолимый.
– Я не отрекаюсь. Я не виновна. Я – последняя, кто помнит правду. И если вы сжигаете меня сегодня – знайте: вы сжигаете не ведьму. Вы сжигаете совесть этого трона.
Толпа замерла. Даже воронье на крышах притихло.
Король наконец посмотрел на неё. В его глазах мелькнуло что-то – не страх, нет. Раздражение. Как будто назойливая муха портит ему праздник.