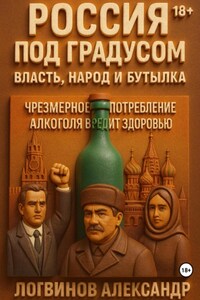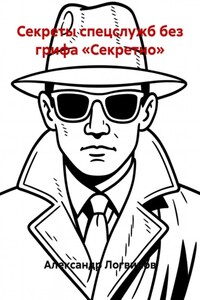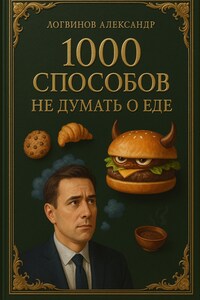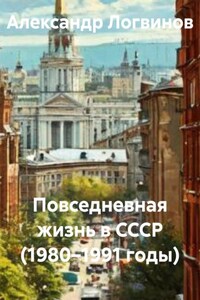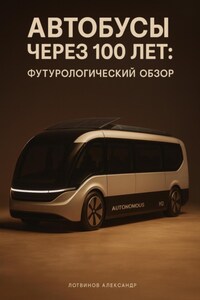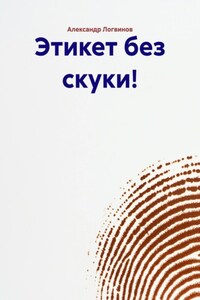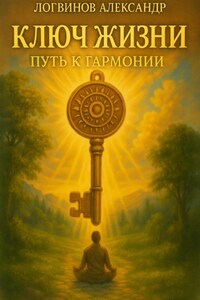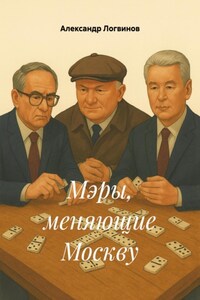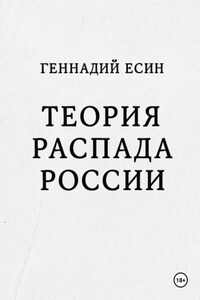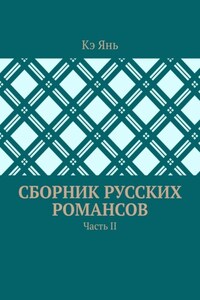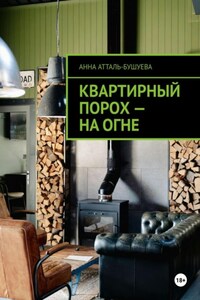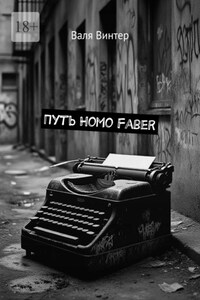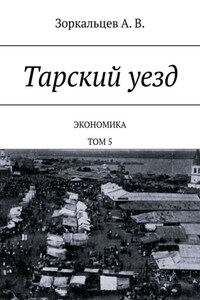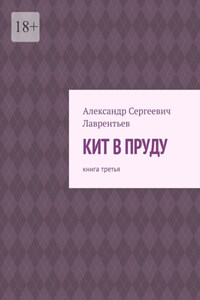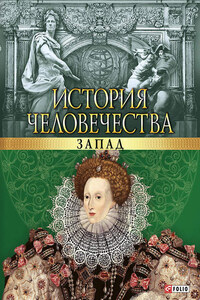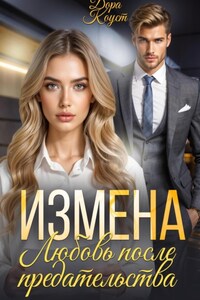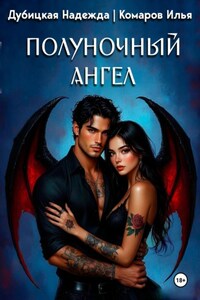Введение. «Питие есть веселье Руси, не можем без того быти!» – эта легендарная фраза, приписываемая князю Владимиру Святому, определила судьбу алкоголя в российской истории. От средневековых пиршеств до современных вечеринок, алкоголь прочно вошёл в культурный код России – став и «врагом» нации по официальной риторике, и её непременным спутником в быту. Недаром Екатерине II приписывают циничное изречение: «Пьяным народом легче управлять» – намёк на то, что власти нередко смотрели сквозь пальцы на народное пьянство, если оно помогало держать подданных в повиновении. Эта книга – ироничное, но основанное на фактах путешествие через века алкогольной диалектики в России: постоянного противоречия между государством, пытающимся обуздать “зелёного змия” (но одновременно получающим от него доходы), и народом, для которого спиртное – то отдушина, то традиция, то тихий бунт. Мы проследим исторические этапы отношения к алкоголю в СССР и постсоветской России, рассмотрим государственные кампании против пьянства, социальную роль застолий и рюмки, экономику “пьяных денег”, региональные различия, влияние пития на культуру и современные трезвеннические тенденции. Все факты подтверждены серьёзными источниками, а изложение приправлено лёгким юмором, ведь как говорил герой одной шутки: «Водка – наш враг, но кто сказал, что русские боятся врагов?».
Глава 1. Исторический экскурс: от имперского кабака до советского застолья
Царская монополия и «пьяный бюджет». Алкоголь присутствует в русской истории с древних времён. В средневековой Руси пили в основном слабоалкогольные напитки – мёд, пиво, квас, разбавленное вино. Крепкие спиртные напитки появились в XV веке, а уже в XVI веке царь Иван Грозный, нуждаясь в средствах, учредил государственные кабаки с монополией на продажу водки. Это решение заложило двоякую традицию: с одной стороны, максимизировать доход казны от продажи «хмельного», с другой – пытаться контролировать народное пьянство. Например, в царских кабаках не продавали закуску («чтоб закуска не крала градус и копейку государеву») и не пускали женщин, дабы ничто не отвлекало мужчин от пития во имя пополнения бюджета. А для окончательно пропившихся предусматривалась “гунька кабацкая” – тряпка, в которую завертывал нагой тело тот, кто спустил на водку всю одежду. Символ крайнего падения – но и знак, что государство осознавало социальные издержки пьянства даже при стремлении наживы.
К XVIII веку питейные доходы стали краеугольным камнем российской казны. После реформ Петра I водочные акцизы давали около 50% доходов бюджета – гораздо больше, чем в других странах Европы того времени! На рубеже XIX–XX веков ситуация схожая: министр финансов С. Ю. Витте ввёл винную монополию (1894), и к 1913 году продажи казённой водки приносили 26% всех доходов российского бюджета. Эти “пьяные деньги” – существенная доля казны – позволяли государству финансировать армию и держать низкие цены на хлеб, но за это приходилось расплачиваться здоровьем нации и моральными издержками.
Сухой закон, революция и советская легализация. Первая мировая война принесла в Российскую империю резкий поворот: в 1914 году Николай II ввёл сухой закон, запретив продажу крепкого спиртного. Парадоксально, но одно из самых пьющих государств вдруг стало трезвым – и, как отмечают историки, не прошло и нескольких лет, как империя рухнула. Позднее исследователи заметили мистическую параллель: в 1985 году генсек Горбачёв тоже решился «закрутить крышку» и ограничил доступность главного народного напитка, и через шесть лет Советского Союза не стало. Хотя прямая причинно-следственная связь спорна, совпадение подчёркивает центральное место водки в российской жизни.