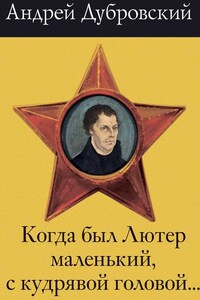Глава 1: Кровавый рассвет.
Ростов-на-Дону 1918 года всегда ощущался Сергею Крымову тяжелым, густым, вязким. Это был острый, металлический привкус запекшейся крови на языке, смешанный с едким, режущим горло, шёпотом тлеющей сырости и въевшегося в воздух пепла. Даже едва заметные ещё на горизонте сполохи багрового, кровавого солнца казались ему лишь очередным жестким, алым мазком, беспокойно царапавшим его сетчатку.
Где-то, далеко, со стороны Нахичеванского базара, вновь вспыхнула перестрелка – одиночные винтовочные выстрелы, резкая пулеметная очередь. Эти звуки воспринимались им не как разрозненные всплески, но как жгучие, рваные алые нити, мгновенно вспыхивающие и гаснущие в периферийном зрении, и каждая такая вспышка сопровождалась глухим, низкочастотным гулом, ноющим эхом, отдающимся глубоко в самой основе черепной коробки, оседающим в мышцах спины, между лопаток. Случайный крик или короткий, утробный смех проходящего мимо патруля, за которыми иногда следовал протяжный стон – всё это доходило до его слуха с неестественной, болезненной резкостью, словно обрывочные, скрипящие металлические струны, немилосердно врезаясь в сознание.
Это была не просто сенсорная перегрузка; это было постоянное, изматывающее бремя его памяти и сверхчувствительности. Он видел всё, слышал всё, помнил всё – с неумолимой, мучительной ясностью, без возможности отфильтровать ненужное.
Сергей сидел, слегка сгорбившись, на опрокинутом ящике из-под угля посреди руин роскошной библиотеки городского головы. Обгоревшие балки тянулись к провалу потолка, как застывший жест агонии, а пустые глазницы разбитых окон смотрели на растерзанные городские дворы. Лишь чудом на одной из почерневших стен осталась цела ниша с частью книг. Сергей прикрывал своим скудным плащом спасённые им рукописи и редкие книги, делая вид, что сортирует страницы. Но его разум непрерывно анализировал, упорядочивал, переваривал непрерывные потоки беспорядочной информации.
Вязкая, удушающая пыль вековой бумаги имела для него непереносимо тяжёлый, горьковато-жёлтый цвет, похожий на желчь, а её тонкий, плесневелый аромат, едва уловимо вибрирующий в воздухе как низкая, глухая, погребальная нота, почти не облегчал постоянного внутреннего давления. Каждое лицо, отмеченное в его памяти яркой, болезненной, иногда кислотной краской, увиденное им год или три года назад, каждая фраза из проповеди, каждый скрипучий, резкий звук, и даже количество щербин на сломанном перильце – всё это было заперто в его голове. Эти детали не фильтровались, они всплывали по малейшей ассоциации, настигая и подавляя его кристальной четкостью. Иногда Сергею казалось, что его сознание – это бесконечная очередь фотографий, звуков и запахов, откуда нельзя выйти. Он был пойман в собственном разуме.
Внезапно резкий, импульсивный, почти яростный оранжевый хлопок, разрывающий однотонную вялость утренних звуков, прозвучал из ближайшего переулка. Секундой позже в разрушенный дверной проём влетел Степан Фролов, отряхивая пыль со своего изношенного полушубка. Казаку было двадцать четыре года, но беспощадные годы гражданской войны прописались на его молодом лице резкими, угловатыми чертами. Его обычно озорные, смеющиеся глаза, которые для Сергея всегда светились ярким, живым золотом, словно пламя на солнце, сейчас горели непривычным, настороженным сероватым, лихорадочным светом, а дыхание вырывалось из груди тяжело, с рваным, хриплым звуком, который нёс в себе скрытую панику.
– Здорово, профессор! Дня доброго! Если этот день не приснился! – бросил Степан, задыхаясь, без своей привычной ухмылки. Его голос, обычно гибкий и переливчатый, наполненный перезвоном смеющихся ручейков, сейчас звучал натужно, с оттенком пересохшей, растрескавшейся от зноя глины, что не предвещало ничего хорошего. – На Старой Конюшенной… голова Захарченко отлетела, как гнилая тыква! Выпотрошили его! Крестом его, профессор! Словно чучело на чужом поле к доске прибили! А главное… главное даже не в голове его и не в дыре в груди….