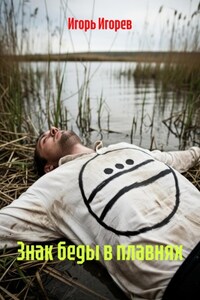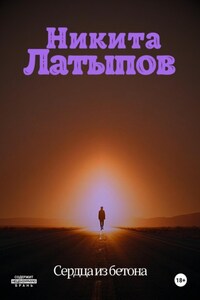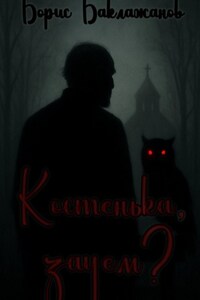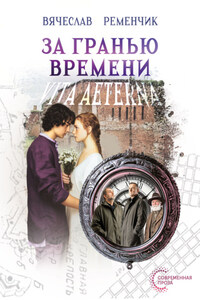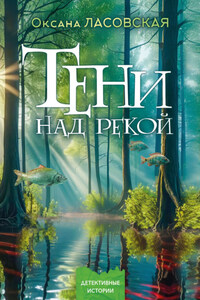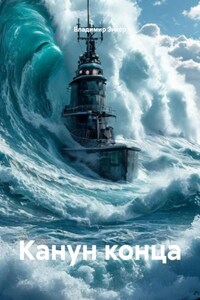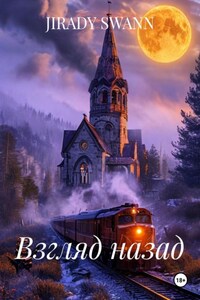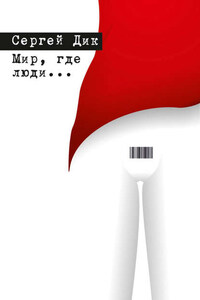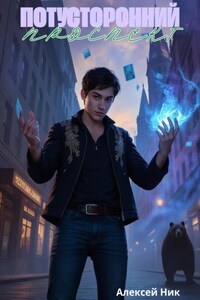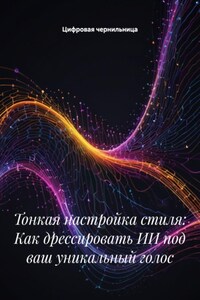Пролог.
Полуденный зной лгал. Он обещал покой, вечность, дремотную неподвижность, но Андрей Сагайдачный чувствовал подвох в самой густоте этого марева, дрожавшего над выжженной солнцем степью. Воздух, плотный и тяжелый, пах полынью и пылью. У реки, в камышовых зарослях, надсадно гудели шмели, и этот звук, вместо того чтобы убаюкивать, царапал нервы, как затупившийся нож.
Его верный конь Гром беспокойно переступил с ноги на ногу, фыркнул, стряхивая с гривы назойливого слепня. Андрей успокаивающе потрепал его по влажной шее. Конь понимал его без слов. Он тоже чувствовал – что-то неправильное затаилось в этой оглушающей тишине у берегов Сухого Ангелика.
– Да угомонись ты, Андрюха, – лениво протянул Тарас Задорожный, не отрывая взгляда от поплавка. – И сам дергаешься, и коня мучаешь. Клюет же!
Тарас был его полной противоположностью. Шумный, открытый, с вечной усмешкой в уголках губ. Для него этот зной был благословением, река – спасением, а рыбалка – лучшим делом на свете. Андрей завидовал этой легкости. Иногда.
– Не нравится мне эта тишина, Тарас. Слишком громко она молчит. – Вечно ты беду кличешь. Что случиться-то может? Деды наши тут жили, и мы живем. Землю пашем, рыбу ловим. Все, как всегда.
Андрей промолчал. Стекло хрустнуло под его сапогом – осколок винной бутылки, оставленный кем-то на берегу. Он пнул его в воду. «Все как всегда». Ложь. Последние месяцы станица жила слухами. О переделе земель, о новых налогах, о каких-то чиновниках из самой столицы, что приедут «порядок наводить». Казачьи вольности, которыми так гордились старики, трещали по швам, и каждый это чувствовал, но гнал от себя дурные мысли. Каждый, кроме Андрея. Его аналитический ум цеплялся за эти мелочи: за хмурый взгляд станичного атамана, за участившиеся сходы, за шепотки баб у колодцев.
Картина была спокойной, пасторальной. Вдалеке виднелись беленые хаты станицы Полтавской, утопающие в зелени садов. У реки паслись коровы, лениво отмахиваясь хвостами от мух. Здесь, в сердце Кубани, время, казалось, застыло. Большинство хозяйств – крепкие середняки – держались на земле. Пахали, сеяли, убирали. Иногородние, не имевшие своих наделов, занимались ремеслом: ковали, шили, чинили. Жизнь текла по вековому укладу. Но под этой видимой гладью зрел нарыв. Андрей это видел.
– Смотри! – Тарас вскочил, леска на его удочке натянулась струной.
Борьба была недолгой. Через минуту на траве забился серебристый сазан, сверкая на солнце чешуей. Тарас смеялся, гордый собой.
– Вот она, наша беда! Уха будет знатная!
Андрей лишь криво усмехнулся. Его взгляд был прикован не к рыбе, а к дальнему берегу. Там, в изгибе реки, что-то блеснуло. Не солнечный блик на воде. Что-то металлическое. Правильной формы. Он прищурился.
– Ты это видел? – Кого? Сазана? Так вот же он, красавец! – Нет. Там. У старой ивы.
Тарас проследил за его взглядом. – Да ничего там нет. Показалось тебе.
Но Андрей знал, что ему не показалось. Недоверие к праздной безмятежности было его сутью, его проклятием. Он видел то, чего другие не замечали. Тонкие несоответствия. Детали, выбивающиеся из общей картины. И этот блеск был одной из них.
Отец, старый пластун, учил его читать степь как книгу. «Не верь глазам, верь чутью, – говаривал он, – Степь всегда предупредит. Шорохом, птичьим криком, запахом чужого дыма». Этот запах чужого дыма… он напомнил Андрею о пожаре в темрюкском порту два года назад, когда сгорели склады с зерном. Все списали на неосторожность грузчиков, но Андрей видел, как за день до этого в кабаке сидели двое подозрительных, с нездешним говором. Именно поэтому он никому не верил на слово.
Они собрали улов и двинулись к станице. Гром шел ровным шагом, но уши его нервно прядали. Андрей ехал молча, прокручивая в голове обрывки разговоров, недомолвки, странные взгляды. Он чувствовал себя охотником, идущим по невидимому следу. Вот только кто был дичью, а кто – охотником, он пока не понимал.