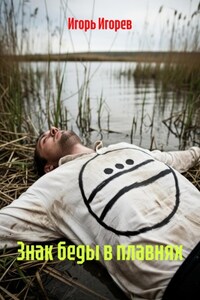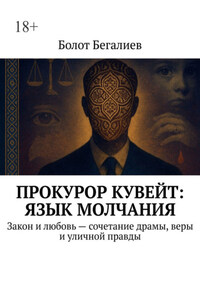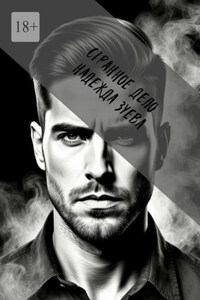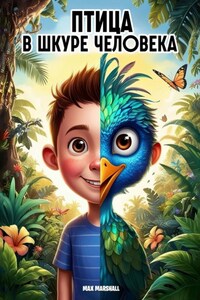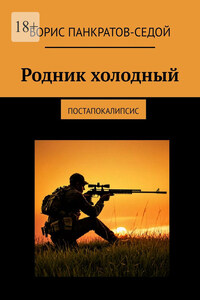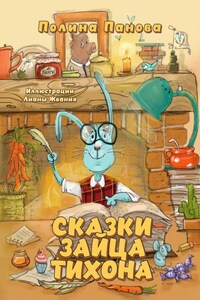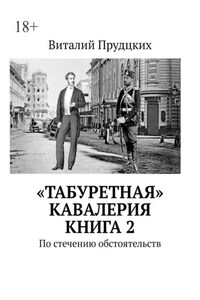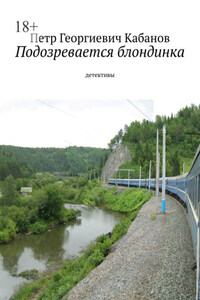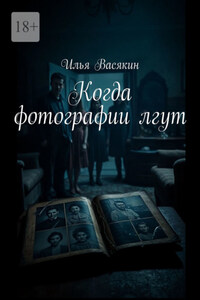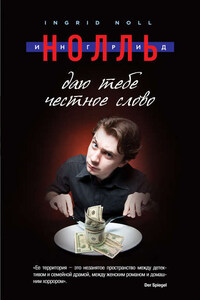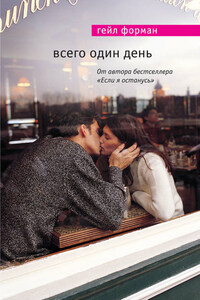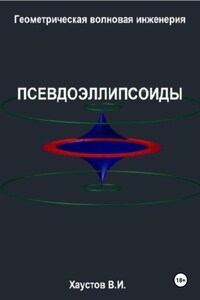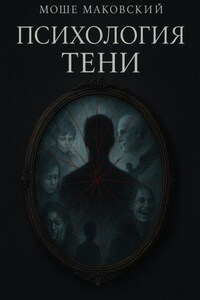ПРОЛОГ (Точка зрения Веры до начала событий) ?
Тишина в лекционном зале была моим идеальным состоянием. Она была наполнена не пустотой, а смыслом. Здесь, в этом упорядоченном пространстве, я властвовала над самым главным человеческим страхом. Я препарировала его, раскладывала на концепции, заключала в элегантные формулы.
Смерть, объясняла я своим студентам, – это в конечном счёте глубоко личное, интимное событие. Это финальный акт, который подчёркивает нашу абсолютную экзистенциальную обособленность. Никто не может умереть за тебя. Никто не может пережить ТВОЮ смерть. Это идеальное, философское уравнение с одним неизвестным, которое каждый из нас решает в полном одиночестве. Всё, что окружает этот акт – слёзы родственников, социальные ритуалы, пышные похороны или забвение – лишь эмоциональный шум, несущественные переменные, не влияющие на чистоту самой формулы. ?
Я была уверена, что понять смерть – значит принять её как неотвратимую, сугубо личную возможность. Принять и тем самым возвыситься над хаосом бытия. Я искренне верила, что самое важное происходит внутри человека, в его сознании, в тот момент, когда он смотрит в лицо своей конечности. ?
Я говорила им, что мы должны научиться отделять чистоту этого философского акта от его бытовой, социальной обёртки. Шум похоронных маршей, споры о наследстве, истерики близких – всё это вторично. Главное – это ты и твоё бытие-к-смерти. Чистая, холодная, совершенная в своей неотвратимости мысль. ?
Я была так уверена в своей правоте. Я думала, что понимаю смерть. Какая же я была высокомерная дура. Я смотрела на мир через микроскоп, видя клетку, но не замечая целый организм, частью которого она была. Я ещё не знала, что смерть – это не точка в конце личного уравнения. Это взрыв, ударная волна которого сносит всё вокруг, и эпицентр этой катастрофы находится не внутри умирающего, а в сердцах тех, кто остаётся жить. ?
ЧАСТЬ I. ПОГРУЖЕНИЕ
Глава 1. Лекция о Смерти
Вера любила эту тишину. Не мёртвую, давящую пустоту, а тишину живую, сотканную из дыхания, скрипа ручек и сосредоточенного внимания. Двадцать пар глаз смотрели на неё из уютного полумрака лекционного зала Ставропольского государственного университета. В длинных, тяжёлых столбах света, падавших из высоких арочных окон, медленно кружился хоровод золотых пылинок, словно время здесь замедлило свой бег. Пахло старыми, рассохшимися деревянными панелями, бесчисленными страницами книг и чем-то неуловимо-торжественным, что бывает только в местах, где одно поколение за другим пытается постичь вечность. Этот академический, предсказуемый мир был её крепостью. Здесь самые страшные и хаотичные силы человеческого бытия превращались в элегантные концепции, которые можно было препарировать, изучать и раскладывать по полочкам.
– Таким образом, – Вера Михайловна оперлась ладонями о гладкую, отполированную сотнями рук поверхность кафедры, – Мартин Хайдеггер настаивает, что «бытие к смерти» – это не болезненное ожидание финала и не патологический страх. Это не глухая стена, в которую мы все однажды обречённо упрёмся. Он предлагает нам взглянуть на это с совершенно иной, продуктивной стороны. Смерть, господа, это предельная, самая последняя и абсолютно неотвратимая возможность нашего существования. И именно осознание этой финальной возможности придаёт подлинную ценность всем остальным.
Она сделала выверенную паузу, позволяя сложной мысли найти своё место в умах слушателей. В первом ряду худенькая девушка с яркими глазами, Маша, её лучшая студентка, усердно строчила в тетради. На галёрке кто-то пытался подавить зевок. Обычная картина, живая и настоящая. Вера перевела взгляд на свой стакан с чаем, стоявший в массивном мельхиоровом подстаканнике с выгравированным растительным орнаментом – подарок отца на защиту докторской. Чай давно остыл. Она всегда забывала о нём, когда увлекалась. Отец шутил, что её лекции можно измерять в градусах остывания чая.