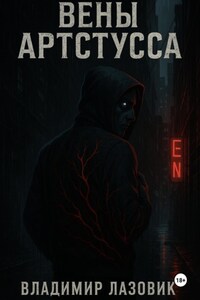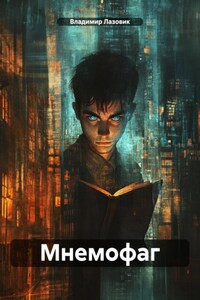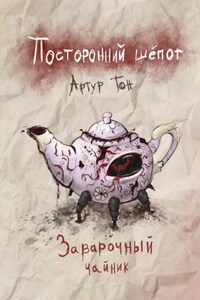Глава 1. Трещины на эмали
Затхлый воздух ударил в ноздри первым. Смесь недельной пыли, кисловатого запаха несвежей еды и чего-то неуловимо-химического, вроде дешевого освежителя, пытавшегося проиграть битву с реальностью. Никита Нянчев – Кит, как он сам себя давно окрестил, – шагнул через порог квартиры Валентины Сергеевны, привычно не морщась.
Бардак был тотальным, почти архитектурным. Горы одежды, старых газет и журналов на стульях, подоконнике, даже частично на полу, создавали своеобразный рельеф местности. Липкие кольца от чашек на пыльном журнальном столике рядом с окаменевшим куском пиццы в коробке. Одинокий носок, свисающий с абажура торшера, как флаг капитуляции перед хаосом. Пустые бутылки из-под минералки и энергетиков у плинтуса. На кухне, видневшейся через дверной проем, громоздилась немытая посуда, словно памятник прокрастинации.
Кит давно перестал удивляться. У его пациентов такое встречалось часто. Их внутренний мир, истерзанный и захламленный травмами, неизбежно прорастал вовне, пуская метастазы хаоса в окружающее пространство. Особенно у тех, кто, как Валентина, вырвался из тисков родительского контроля, где чистота и порядок были синонимами боли и унижения. Где каждая пылинка становилась поводом для крика или ремня. Обретенная свобода часто оборачивалась подсознательным бунтом против любого подобия системы, даже самой безобидной, вроде мытья тарелок. Это был их кривой, отчаянный способ сказать: "Теперь я решаю. И я решаю – не убирать". Кит понимал это. Понимал слишком хорошо.
Кит аккуратно обогнул шаткую стопку книг, увенчанную пустым цветочным горшком, и опустился на единственный стул, который казался относительно свободным – хотя и с него пришлось смахнуть несколько пожелтевших рекламных проспектов. Пружины протестующе скрипнули. Он положил свой небольшой рюкзак на колени.
Валентина сидела напротив, на продавленном диване, поджав под себя ноги. Ей было под сорок, но выглядела она старше – бледная кожа, темные круги под глазами, тусклые, собранные в небрежный хвост волосы. На ней был растянутый серый свитер с пятном неопределенного происхождения на рукаве. Взгляд ее блуждал где-то по ковру, такому же заваленному мелочами, как и все остальное. Она теребила край свитера, пальцы нервно подрагивали.
"Как вы себя чувствовали на этой неделе, Валентина Сергеевна?" – голос Кита был ровным, спокойным, без тени осуждения за окружающий хаос. Это был их четвертый или пятый сеанс после похорон ее матери, и лед трогался мучительно медленно.
Она пожала плечами, не поднимая глаз. "Нормально… Наверное." Пауза. "Странно. Тихо очень".
"Тихо?" – мягко переспросил Кит.
"Да. Никто не кричит. Не указывает, что делать", – она говорила это почти безэмоционально, констатируя факт. "Раньше… мама всегда знала, как лучше. Что я должна надеть, что съесть, с кем говорить… Даже когда молчала, я знала, что она недовольна".
"И как вам теперь без этого… руководства?"
Валентина наконец подняла на него глаза. В них плескалась смесь растерянности и чего-то похожего на вину. "Пусто. Словно… словно компас сломался. Я должна радоваться, да? Свободе? А мне… мне как-то не по себе. Будто я предательница".
"Предательница?"
"Ну да… Она же меня любила. По-своему. Заботилась. А я… я иногда думаю… и мне вроде как… легче?" – последние слова она произнесла почти шепотом, снова уставившись на свои руки. Она словно признавалась в страшном грехе.
Вот оно. Классический узел стокгольмского синдрома, перенесенный на семейные рельсы. Мать была тираном, контролирующим, возможно, применяющим и физическое насилие (Валентина пока обходила эту тему), но она была единственным источником хоть какой-то, пусть и токсичной, "любви" и стабильности в ее мире. Потеряв ее, Валентина лишилась не просто матери, она лишилась своего мучителя, к которому была парадоксально привязана. Любовь к тирану, въевшаяся под кожу, теперь фантомной болью отзывалась в образовавшейся пустоте. Она не знала, как жить без этой боли, без этого постоянного напряжения. Хаос в квартире был лишь внешним отражением этого внутреннего паралича.