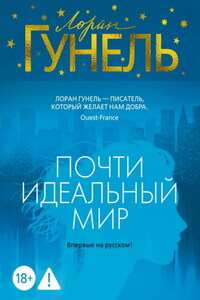6:17 утра.
Темнота за окном была не просто отсутствием света. Это была густая, вязкая субстанция, осевшая в углах комнаты и придавившая грудь одеялом, пока мир за стеклом ещё не решил – быть ли дню. Веки Рю разлепились сами собой, будто невидимый палец, холодный и безразличный, аккуратно поддел их снизу. За тонкой стеной послышался приглушенный скрип пружин – Акико ворочалась в кровати. Он замер, прислушиваясь если скрип повторится, ей понадобится помощь. Помощь, которую он уже не знал, как оказывать.
Третий этаж их дома в Сэтагая хранил тишину, как музейный экспонат под стеклом. Даже собственные шаги по коридору, ведущему в ванную, звучали приглушённо и виновато, будто между половицами много лет назад насыпали мелкий песок – не для уюта, а чтобы заглушить, похоронить что-то очень важное.
В ванной свет люминесцентной лампы ударил в глаза, как наказание за попытку вернуться в реальность. Он щурился, включая воду. Сначала она хлестнула обжигающей струёй, будто из подземного гейзера, а через секунду уже леденила кожу до костей – всегда так, с точностью до абсурда, будто кто-то невидимый и равнодушный постоянно подкручивает краны в каком-то другом, параллельном измерении, издеваясь.
– Опять не выспался? – голос Акико, приглушенный дверью и утренней хрипотцой, пробился сквозь дерево. Он был похож на тот первый скрип кровати – тревожный и одинокий.
Он провёл ладонью по лицу, смахивая липкие остатки сна, которые цеплялись, как морская пена после шторма. По щеке прошла тень щетины. Шрам на скуле, о котором она никогда не спрашивала, отозвался тупым воспоминанием.
– Нормально, – солгал он, и слово повисло в воздухе тяжелым и некрасивым предметом.
Его «нормально» уже много недель означало ровно четыре часа прерывистого, тревожного забытья, где сны текли в такт звукам ночного Токио за окном: отдаленному гудку одинокой машины, завыванию сирены скорой, за которой никто не спешит, и приглушенным, обрывочным крикам пьяных клерков, теряющих человеческий облик где-то в подворотнях, в ожидании первого поезда. Это был не сон, а одно долгое, растянутое бдение. Дежурство на границе двух реальностей, ни в одну из которых он не мог войти полностью.
7:05. Кухня.
Кофе заваривался в старой капельной машине «Kalita» – подарке от дяди, пережившего ту самую аварию, которую в семье предпочитали не упоминать. Рю часто думал, что машина, должно быть, помнит тот удар – в ее пластиковом корпусе зияла тонкая паутинка трещины, заклеенная желтым скотчем, словно заживающая рана. Он наблюдал, как первые тяжелые капли, одна за другой, пробиваются сквозь бумажный фильтр, насыщенный темной горечью, и падают в стеклянную колбу, образуя на ее дне растущую, непроглядную черную лужу. Пар поднимался от нее дрожащим призраком, растворяясь в прохладном утреннем воздухе.
Ритмичное бульканье кофеварки внезапно перебил резкий, сухой щелчок. Тостер, будто бы вздрогнув, выплюнул два ломтя: один – подгоревший по краям, с угольными прожилками, словно обугленная карта неизвестной местности, второй – идеально золотистый, ровный и безмятежный. Абсурдная лотерея, в которой Рю почему-то всегда видел глубокий смысл.
Из гостиной доносился приглушенный, медоточивый голос телевизионного диктора, рассказывающего о чем-то неважном с натянутой, профессиональной улыбкой.
– Сегодня утром опять говорили про землетрясение, – голос Акико возник из-за его спины, ровно в тот момент, когда он взялся за ручку тостера. Она катила коляску, ловко и почти беззвучно огибая угол, будто исполняя давно отрепетированный танец. Колеса оставляли на линолеуме едва заметные влажные полосы – след от ночного дождя.
– Да? – откликнулся Рю. Его собственный голос показался ему чужим, осипшим от утреннего безмолвия. Он поставил перед ней на стол тарелку, где на белом фоне дымилась яичница-глазунья. Желток дрожал, колыхался, пойманный в ловушку из свернувшегося белка, – хрупкое, жидкое солнце, готовое лопнуть от малейшего прикосновения.