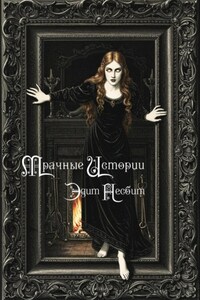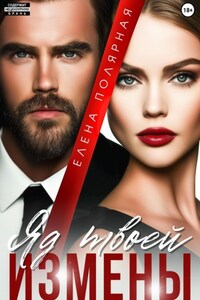Рассказы эти написаны на английском диалекте – который, тем не менее, нельзя назвать диалектом в строгом смысле слова, ибо в нем нет ни единообразия в произношении, ни странных, непонятных читателю слов.
В деревнях Южного Кента, чьи названия оканчиваются на «-ден», и там, в холмах Сассекса, где деревни заканчиваются на «-хёрст», живут простые люди, говорящие на этом простом наречии – наречии, которое английскому уху должно быть милее, чем непримиримые согласные северных говоров или мягкая, певучая речь западных холмов.
Летними ночами по лондонской дороге скрипят рыночные повозки; в Лондон едет и шальной юнец, и степенный молодой человек, что хочет «выбиться в люди». В Лондон едет девушка в поисках «места». Городские гулянки подбираются к этим землям совсем близко – так близко, что с их рубежей можно услышать звуки сакбута и шалмея*, доносящиеся из экипажей. Раз в год сюда приезжают сборщики хмеля. И потому чаша холмов не хранит в себе незамутненного источника пасторальной речи.
А потому книга сия не представляет ценности для знатока среднеанглийского языка и не нуждается в глоссарии.
КЕНТ, март 1896 г. Э. НЕСБИТ.
*Сакбут и шалмей – старинные музыкальные инструменты. Автор использует их для создания архаичного и одновременно ироничного образа шумной музыки с городских пирушек (прим. пер.).
У нас с двоюродной сестрой Сарой была всего одна тетка на двоих – моя тетушка Мария, что жила в маленьком коттедже у самой церкви.
А у тетушки моей имелись и деньжата, припрятанные на черный день, которые она, по здравом размышлении, не могла надеяться унести с собой, когда придет ее час, – куда бы она там ни отправилась, – и дом, полный мебели, старомодной, но крепкой и еще добротной. Так что мы с Сарой, разумеется, не ленились навещать старушку, нося ей то баночку-другую варенья в ягодную пору, то пирожок, если пекли в тот день, да если печь не подводила и выпечка удавалась. И по тетушкиному обхождению нипочем не скажешь, кто из нас ей милее; иные даже поговаривали, что она может оставить половину мне, а половину Саре, ведь ни сына, ни дочки у нее своих не было.
Но тетушка была натуры хваткой, и что раз собрала, того не любила разбазаривать. Даже если речь шла всего лишь о тряпье из ее мешка для лоскутов, она скорее отдала бы все одной, чтобы сшить большое одеяло, чем поделила бы на двоих, чтобы вышло два маленьких.
Так что мы с Сарой знали: деньги могут достаться одной из нас или ни одной, но обеим – никогда.
Иные люди не верят в особое провидение, но я всегда считала, что не обошлось тут без чего-то из ряда вон выходящего, раз уж все случилось именно так, а не иначе, в тот самый день, когда тетушка Мария подвернула лодыжку. Она прислала к нам на ферму, где мы жили с матушкой (а матушка была женщиной толковой и управлялась с фермой куда лучше многих мужчин, хоть это и не к слову пришлось), спросить, не сможет ли кто из нас, я или Сара, прийти да поухаживать за ней немного, потому как доктор сказал, что на ногу ей неделю, а то и больше, не ступить.
Пастор, в чей приход я хожу, всегда предостерегает нас от суеверий, под коими, я полагаю, разумеется вера в то, во что верить нет никакой нужды. И я не более других им подвержена, но все же всегда говорила и говорить буду: есть над нами особое Провидение, и не зря именно в то утро Сару свалила ангина. Так что я собрала кое-какие вещички – помнится, в Сарину шляпную картонку, ее нести было сподручнее, чем мою, – и отправилась в коттедж.
Тетушка лежала в постели, и то ли от подвернутой лодыжки, то ли от жары, уж не знаю, но старуха была сварлива донельзя.
– Доброе утро, тетушка, – сказала я, войдя. – Как же это вас угораздило?