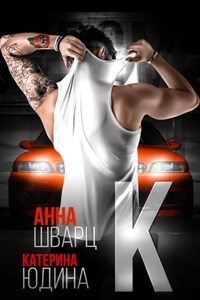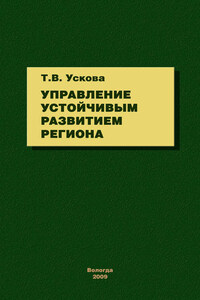Лаборатория была погружена в вязкую тишину, нарушаемую лишь ритмом приборов и мерным капанием жидкости в прозрачных трубках. Слабое свечение капсул делало помещение похожим на храм, где жертвами становились не люди, а сама жизнь.
Онисама сидел за длинным столом, но взгляд его снова и снова возвращался к шприцу, лежавшему в стороне. Внутри густо переливалась тёмная кровь. Шприц, который он когда-то принёс из старой лаборатории.
Воспоминания настигали его вспышками – будто короткие, болезненные кадры: холодный пол, багровый свет ламп, собственный крик, сорванный до хрипоты. Его пальцы, судорожно сжимающие металлический корпус, когда он набирал кровь у мёртвого Луки. И тошнотворное осознание, что руки, дрожащие от боли, принадлежат убийце.
Он отвернулся от шприца, но тень прошлого не отступила. Перед ним – крошечный эмбрион, соединённый из яйцеклетки и выбранной им спермы. Всё шло по строгому плану, каждый шаг был выверен десятками поколений до него. Но когда пальцы коснулись холодного металла шприца, план распался.
Не понимая сам, зачем это делает, Онисама ввёл в капсулу кровь Луки. Движение было резким, почти инстинктивным, будто это не он решал, а сама судьба.
– Хотя бы часть тебя останется, – прошептал он одними губами.
Он сделал её девочкой. Дочерью Луки. В глубине души он верил: даже если она унаследует его характер, то, возможно, женская оболочка смягчит жестокость. Что-то в ней станет другим. Спокойнее. Чище.
«Ты не должен исчезнуть совсем», – думал он.
Закрыв капсулу, он вернулся к работе. Остальные девяносто девять детей создавались строго по правилам, из других образцов. В лабораторном журнале он аккуратно записал имена «родителей» – чужих мужчин и женщин, чтобы никто никогда не узнал правды.
Только в его сердце оставалась тайна: продолжение Луки будет жить.
Прошло три года. Всё шло своим чередом: новое поколение росло под присмотром Саны и других чистых, у которых была предрасположенность к воспитанию детей.
В большом зале, полном света и голосов, смех перемешивался с детскими шагами и хлопками ладошек. Кто-то катался на руках у воспитателей, кто-то играл в догонялки, кто-то разглядывал кубики, складывая их в немыслимые башни.
Посреди этой суеты сидела Сана, окружённая ребятнёй. Она терпеливо следила за порядком, мягко поправляла и направляла, улыбаясь каждому. Но взгляд её то и дело возвращался к одной девочке, что стояла в углу.
Эта девочка будто нарочно выпадала из общего строя. Утренние косички давно превратились в растрёпанный веник: одна резинка уже куда-то исчезла, вторая держалась на честном слове, болтая на распущенных прядях. На ногах у неё – два разноцветных носка, а платье успело испачкаться краской. Она глядела из-под лобья, холодно и оценивающе, будто вовсе не ребёнок. Это была Люсиль.
Она не играла, не смеялась с другими, а пристально смотрела на мальчика, сидевшего чуть поодаль. Тот был кругленьким, с мягкими щеками и короткими каштановыми волосами. Он возился с игрушечной кухней: аккуратно ставил пластиковую сковородку на плитку и с серьёзным видом «жарил» пирожки.
Это был Киросава. Его полнота удивляла воспитателей. Сана даже показывала мальчика Онисаме, спрашивая, всё ли в порядке. Онисама лишь разводил руками: анализы в норме, пусть растёт. «Перерастёт, – говорил он, – будем наблюдать, но всё обойдётся». Сана перестала волноваться, но изредка всё же с любопытством поглядывала на «пирожка».
Люсиль же смотрела на него слишком долго. Наконец подошла, ткнула мальчика пальцем в плечо и насмешливо сказала:
– Да ты сам как пирожок!
Слова прозвучали обидно. Киросава покраснел, глаза его заблестели от смущения и злости. Но Люсиль только расхохоталась и, словно птица, вспорхнула в сторону, усевшись у стены. Она смеялась звонко, заливисто, словно сама шутка была нужна только ей.