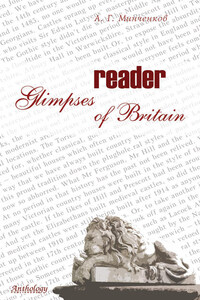Вопль не был человеческим. И не был звериным.
Он прошил предрассветную стынь, пронзив туман, липнувший к плетням киевского Подола, словно саван к остывающему телу. Это был звук, вырванный из глотки существа, познавшего абсолютный, запредельный ужас – такой, что предшествует не просто смерти, а полному и вечному забвению. Звук, от которого у старого гончара Микулы, вышедшего на крыльцо опорожнить переполненный за ночь мочевой пузырь, свело пах, а теплая струя на миг иссякла.
Крик оборвался. Не затих, не угас – его будто перерезали тупым ножом. Сразу после этого донесся тошнотворный, влажный хруст, будто кто-то с силой наступил сапогом на сырую курицу, и глухой, тяжелый шлепок, словно на земляной пол уронили полный требухи и крови мешок.
И тогда пришла тишина.
Микула застыл с полурасстегнутыми портами, вслушиваясь. Но тишина была гуще тумана. Вязкая, жирная, давящая тишина, пропитанная только что свершившимся кошмаром. Она сочилась, как гной из нечистой раны, из всех щелей избы вдовы Ганны, что одиноко горбилась у самого оврага. Ганна третий день как уехала к родне, оставив свое скромное хозяйство под присмотром того, кого она ласково и шепотом звала «Дедкой». Её домовой. Тот, кто, по поверьям, отгонял от порога лихо и латал трещины в печи невидимыми руками.
Дрожащая пятерня Микулы нащупала на шее медный крест, но пальцы по привычке сложились в щепоть для старого знамения. Он воевал с Игорем, видел, как печенежские стрелы превращали людей в истыканные подушки, как волчья стая разрывала отбившегося от дружины отрока. Но тот оборвавшийся крик разбудил в его шестидесятилетней душе тот липкий, первобытный ужас из детских сказок о Бабе-Яге, что грызет кости.
Дверь кузни напротив со скрипом отворилась. Из мрака выступил Остап, местный коваль, – гора мускулов, заросшая черной щетиной, способная согнуть подкову голыми руками. В его ручище покоился не молот, а тяжеленный боевой топор-бердыш, который он всегда держал у лежанки. Его налитые кровью со сна глаза впились в Микулу через мутную пелену тумана.
– Слыхал? – рык Остапа был похож на скрежет камней.
Микула смог только судорожно кивнуть, чувствуя, как по спине ползет холодный пот.
Они посмотрели на избу Ганны. Дверь была чуть приоткрыта, тонкая темная щель в сером мире. И из этой щели тянуло. Тянуло не дымком от остывающего очага. Пахло так, как пахнет в яме для скотьих потрохов в жаркий день. Густая, удушливая вонь горячей крови, свежего дерьма и чего-то еще… чего-то невыносимо сладкого, как гниющие фрукты.
– Пойдем, – решил Остап, его голос не оставлял места для спора.
Он двинулся вперед, широко расставив ноги, словно идя на медведя. Микула, застегнув порты, поплелся следом, ощущая себя дряхлым и беспомощным. Страшно было до икоты, но оставаться одному было еще страшнее.
Остап не постучал. Он толкнул дверь плечом, и та с протяжным, жалобным стоном отворилась внутрь. Они замерли на пороге, и мир для них сузился до размеров этой маленькой, вонючей избенки. Воздух внутри был таким плотным, что, казалось, его можно резать ножом. У Микулы немедленно запершило в горле, и желчь подступила к самому кадыку.
Единственный косой луч утреннего света, пробившийся сквозь затянутое бычьим пузырем оконце, падал прямо в центр комнаты, выхватывая из полумрака сцену, сотворенную воспаленным воображением безумного мясника.
На полу, в луже быстро остывающей, чернеющей крови, лежало то, что было домовым. Маленькое, сморщенное тельце, ростом не больше трехлетнего дитяти, похожее на ком грязной, мокрой пакли. Его длинная, обычно белоснежная борода, которой так гордилась Ганна, была теперь сбившимся, пропитанным кровью и грязью колтуном.