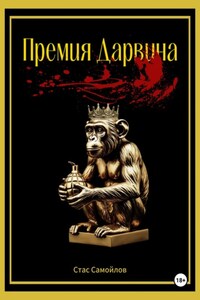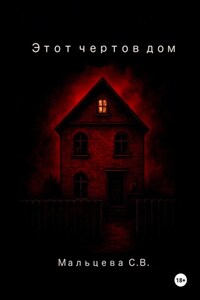Уральский ветер не просто дует – он скребет когтями по гранитным скалам Таганая, свистит в щелях старых, скрюченных сосен, выворачивает с корнем душу. Он приносит с вершин запах хвои, влажного мха и чего-то древнего, каменного, бесконечно одинокого. Именно таким ветром, холодным и цепким, встретил нас Киалимский кордон, где мы с Сашей и Димой решили заночевать перед двухдневным переходом через хребет.
Мы были не новичками, знали каждую тропинку в этих местах. Но Таганай всегда умеет преподносить сюрпризы. К вечеру с гор сползла стена такого густого, молочно-белого тумана, что от ближайших деревьев оставались лишь размытые, призрачные силуэты. Мир сузился до пятачка перед избой лесника, затерянной в этом безмолвном, ватном коконе. Свет фонарей не пробивал его, а лишь освещал миллионы кружащихся капелек, создавая жутковатое ощущение замкнутости, отрезанности от всего живого.
Именно в этой тишине, неестественной и давящей, мы впервые услышали Его. Не звук, а скорее ощущение. Глухой, отдающийся в груди стук.
Тук. Тук. Тук.
Словно гдето очень близко, за стеной тумана, огромное, тяжелое сердце билось о камень. Дима, самый суеверный из нас, нервно сглотнул.
–Слышите?
–Это ветка о крышу, – буркнул я, но сам прислушался. Стук был мертвым, ритмичным, как шаги идущего за тобой человека. Он не принадлежал этому миру.
Туман медленно поглощал ночь, и вместе с ним наступала тишина, такая глубокая, что в ушах начинало звенеть. И тогда из этой белой тьмы донеслось другое. Сначала едва уловимо, потом все явственнее. Приглушенный, старческий плач. Не рыдания, а именно усталое, безнадежное хныканье, от которого кровь стыла в жилах. Оно будто возникало ниоткуда и обволакивало избу, просачиваясь сквозь щели в бревнах.
Мы замерли, вглядываясь в слепое молоко за окном. И тут Саша, сидевший у самого стекла, резко отпрянул, опрокинув табурет.
–Там… там кто-то есть! – прошептал он, и его лицо было серым от ужаса.
Мы ринулись к окну. Туман колыхался, и на мгновение в его пульсирующей толще проступило лицо. Морщинистое, как высохшая кора, землистого цвета. Мутные, слезящиеся глаза, широко распахнутые, полные такой бездонной, животной тоски, что стало физически плохо. Тонкие, бескровные губы шептали что-то, повторяя одно и то же слово, которое мы скорее угадали, чем услышали:
–Корова… коровушка моя… не видела?
Это длилось секунду. Лицо растаяло, как кошмар после пробуждения. Но плач не прекратился. Он теперь доносился с другой стороны избы, потом сразу с двух. Она ходила кругами, эта Киалимская бабушка, обходя свое стойбище.
– Это же легенда, черт возьми! – истерично засмеялся Дима. – Выводит к людям или заводит в чащу! Надо крикнуть ей! Спросить, куда идти!
– Сиди и не двигайся! – прошипел я, чувствуя, как по спине бегут ледяные мурашки. – Никто никуда не выходит.
Мы заперли дверь на щеколду, подперели ее столом, но это было смехотворно. Ощущение было таким, что она может просто пройти сквозь стены, этой тихой, плачущей тенью. Плач то удалялся, то приближался вновь, и каждый раз, когда он был совсем близко, по стенам избы будто бы скреблись чьи-то тонкие, костлявые пальцы.
Часы, растянутые в вечность, пробили полночь. Туман начал понемногу редеть, превращаясь в рваные, ползущие по земле клочья. Плач стих. Воцарилась звенящая, мертвая тишина. Мы, изможденные страхом, решили, что все кончилось. Решили, что можно перевести дух.
И тогда прямо за дверью, тихо, почти ласково, послышалось:
–Мальчики… холодно мне… пустите погреться… молочка вам принесла… свежего…
Голос был старческим, сиплым, слащавым до тошноты. В нем не было души. Это была лишь оболочка звука, имитация чего-то когда-то живого.