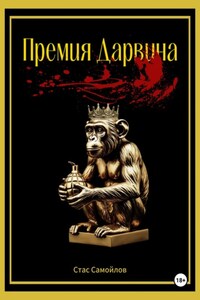Космы грязного дыма и пыли висели под куполом цирка, пропуская сквозь себя лучи слепых, тупых прожекторов. Они не освещали – они вырывали из кромешной тьмы клочья реальности, и главным из этих клочьев был он. Арлекин. Застывшая в центре вселенской черноты марионетка с лицом, располосованным сажей и суриком.
Его мир сузился до липкого круга света. За его границей плескалось море тьмы, густое, дышащее, и в этой тьме шевелились слитные тени. Они ждали. Ждали хлеба и зрелищ. Ждали его унижения.
Шутовской колпак, потертый, въевшийся в кожу потом и greasepaint, съехал набок, обнажив спутанные, сальные волосы. Они липли к вискам, и каждая капля пота, скатывающаяся по виску, была похожа на слезу. Но он не плакал. Он улыбался. Его нарисованный, неестественно алый рот был растянут в оскале, в гримасе, пародирующей веселье. А глаза… Боже, глаза. Под грубым, потрескавшимся слоем белил и кармина они были пусты. Два озера мертвой, стоячей воды, в которых утонуло все, что когда-то было душой.
– Смеяться будете! – выдохнул он, и его голос, обычно звенящий и пронзительный, сорвался в хриплый, старческий шепот, полный ржавых гвоздей и битого стекла.
В ответ – гробовая тишина. Давящая, физически осязаемая субстанция, в которой барабанная перепонка ловила лишь мерное жужжание мухи о раскаленную лампу и тяжелое, похмельное дыхание толпы. Потом – сдавленный, сиплый смешок. Еще один. И вот уже весь зал, этот единый, многоголовый зверь, заходился в кашлеобразном, утробном хохоте. Они не смеялись над шутками. Шуток не было. Они смеялись над ним. Над его немотой. Над его беспомощностью. Над тем, как жалко и нелепо он замер в центре своей личной Голгофы.
Пустая бутылка из-под дешевого пива, шлепнулась в опилки рядом с его стоптанным, засаленным ботинком, обдав нос запахом блевоты и перегара. Потом другая. Она угодила ему в плечо, тупым, коротким ударом, и он почувствовал, как по телу пробежала знакомая, почти сладостная волна боли. Кто-то швырнул горсть липкого, несъеденного попкорна. Желтые, маслянистые зерна, как личинки, застряли в складках его пестрого, выцветшего от пота и грязи костюма.
– Они не понимают, – прошептал Голос. Он был всегда. Он жил в самой сердцевине черепа, теплый, маслянистый, ласковый. – Они – черви. Слепые, глупые личинки, слишком примитивные, чтобы оценить твое искусство. Твое величие. Ты – Бог этого манежа. Ты – паук в центре паутины. Они должны рыдать от восторга. Они должны благоговеть. Они должны умирать к твоим ногам от одного твоего взгляда. А если нет…
Арлекин дернул головой, будто отмахиваясь от назойливой осы. Но Голос не умолкал. Он лился, как мед, заполняя все внутреннее пространство, вытесняя последние жалкие обрывки его собственного «я».
– А если нет… то они должны умереть. Просто и понятно. Это тоже искусство. Высшее искусство. Превратить хаос в тишину. Смех – в предсмертный хрип.
Его пальцы, длинные, костлявые, сходились на трости. Всего секунду назад он весело, по-дурацки подбрасывал ее в воздух, и бубенчики на ее набалдашнике звенели, как колокольчики ада. Дерево под пальцами было гладким, отполированным до зеркального блеска тысячами прикосновений, тысячами представлений. Оно было холодным и невероятно, уютно тяжелым. Настоящим.
– Эй, клоун, ты вообще шутить умеешь? Или только рожи корчить? – проорал кто-то с галерки, и его пьяный, сиплый крик был похож на лай больной собаки.
Арлекин медленно, с скрипом позвонков, повернул голову в сторону голоса. Его гримаса исказилась, макияж поплыл от пота, обнажая мертвенную, серую кожу под ней. Краска смешалась с влагой на лице, стекая багровыми и черными слезами.