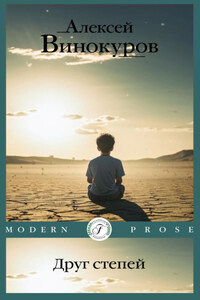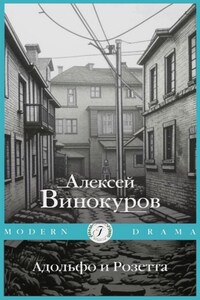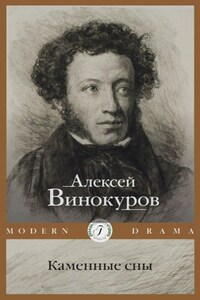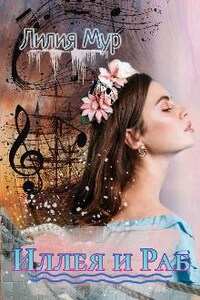Осторожно, таясь и остерегаясь, высунул доктор Ясинский нос на улицу, повел глазами налево, потом направо… Орков не было видно. Впрочем, не глазам он сейчас доверял – а именно, что носу, шестому чувству, спинному мозгу, звериным инстинктам. Чуткие, зубастые, поднялись они из глубин подсознания, сторожевыми псами легли рядом – смотрели, слушали, принюхивались, готовые в любой миг с лаем броситься на врага или, поджав хвост, метнуться прочь…
Вокруг вихрился бледный стылый туман. Ледяная снежинка легла доктору на щеку, потеплела, изошла горячей слезой, скользнула по подбородку, упала на землю, выжгла в насте мельчайший дырявый кратер и пропала навеки. Метель взвыла: она мела и свистела теперь по всем четырем сторонам света, над головой и по земле.
Доктора передернуло – выходить прямо в пургу показалось страшно… Зябко, холодно, неуютно, но больше всего – страшно. Снег стоял в воздухе столбом, словно мертвец поднялся из гроба, ветер хлопал полами его савана, белые глаза глядели слепо.
– Закрывайте, – бросил доктор через плечо, будто боялся отвернуть лицо, боялся, что мертвец упадет на него всей своей хладной громадой, упадет, задавит, вобьет в мерзлую землю по самые брови.
Он потоптался еще на пороге секунду-другую, не решаясь отпустить ручку двери… Топчись не топчись, а идти все равно надо. Ясинский вздохнул, сделал шаг вперед и сразу оказался посреди метели. Снег мгновенно, как из мешка, засыпал ему лицо и брови, ветер кошкой прыгнул за воротник, сухо хлестнул по щекам, потом утих на миг, отступил, застыл, глядел, удивляясь дерзости человека.
– С богом, доктор, – вслед ему прошептала старшая медсестра, неловкой рукой перекрестила его в спину, торопливо рванула дверь на себя, обиженно взвизгнул рыжий засов.
Доктор, видела она, сделал несколько шагов и пропал в белой сыпучей мгле…
Но пропал не насовсем, не навеки. Через несколько шагов, там, где в метели была дыра, он снова вынырнул на божий свет. Шел он осторожно, но уверенно, смотрел под ноги, ища под снежной трухой серые следы асфальтовых дорожек. Столько лет он ходил по ним, что сейчас, наверное, мог бы идти и с закрытыми глазами, не глядя. Но смотреть было надежнее, и он смотрел.
Так он пробирался среди пурги, нащупывая дорогу глазом и ногой, то исчезая совсем, то снова выныривая, туманный в своем темном пальто, как зимняя рыба во льду. Плохо было рыбе во льду, бросало из жара в холод – сейчас бы не метель месить, а пристроиться в кабинете, листать истории болезней, и чтобы старшая медсестра чаю принесла, горячего, сладкого.
Ветер ударил в лицо мелким льдистым песком, ослепил, перебил дыхание. Святый Боже, Святый Крепкий, бессмертный… Будь его воля, ни за что бы не вылез доктор из простуженной, мокрой, но все еще жилой, живой еще психиатрической лечебницы номер пять. Здесь по волчьему военному времени исполнял он временные обязанности главного врача. Что значит временные? А вот то и значит: до времени смерти, до шальной пули, слепого снаряда; свистнет, ухнет, долбанет в мерзлую землю, плюнет кровавыми осколками – и нет доктора Ясинского, поминай как звали кандидата наук Станислава Владиславовича, диссертация «Клинико-социальные особенности суицидального поведения населения Одесской области»…
Ну, и начистоту, между нами: разве не суицид – высунуться в такое время из больницы, забубенной головушкой вперед? Все же какие-никакие стены вокруг, двери, кое-где даже целые окна. А где стекол на окнах нет, там дуется-пухнет гуманитарная пленка, пока не разодрали ее на теплицы бережливые пейзане. Здесь же, среди пурги, царила чистая жуть, посвистывали шальные пули, раздельно тукал пулемет и дальним голосом, поддельной манной небесной гудела артиллерия, посылая на город свои смертельные, туго упакованные презенты.