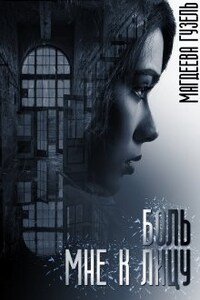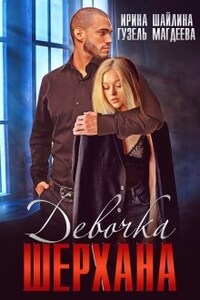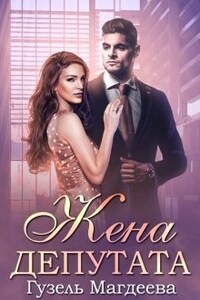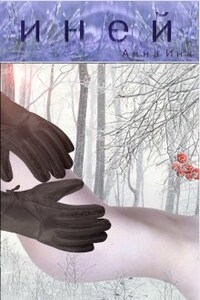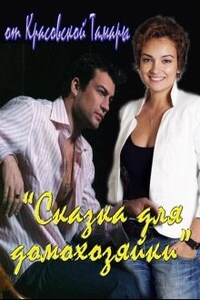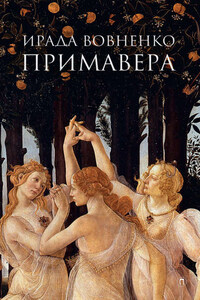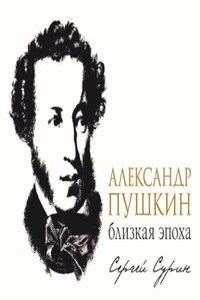Боль мне к лицу
...Я же устала маяться, болезненно
воображать.
Глохнуть от тишины, на холодном кафеле возлежать -
Мне не столько найти, сколько вырвать и удержать:
У нее же кудри, корсет и стать,
А во мне пустОты, что нечем крыть, невозможно сжать -
Я ищу потому, что не знаю, зачем дышать.
Ну, появись ты!
Катарина Султанова
«Алина, Тамара, Оля».
Я считаю суставы пальцев сначала на
левой руке, потом перехожу на правую.
«Игорь, Сема, Руслан».
Имен так много, что я успеваю
пройтись дважды, повторяя их, словно мантры, ища облегчение, но не
находя. Невидящий взор мой уставлен в точку посередине окна. Окна,
забранного тяжелой решеткой, окна, не дающего света. Разве нужно
окно, если сквозь него не попадает свежий воздух, не струятся
солнечные лучи? Разве нужно окно?.. Окно?..
«Тетя Лена, папа, мама».
Список всегда закрывает она. Женщина,
подарившая жизнь и первой отвернувшаяся от дочери, когда ту
признали больной. Впрочем, как и все остальные, чьи имена я
беззвучно шепчу, едва двигая губами. Тех, кто когда-то был рядом, а
теперь отдалился и забыл навсегда.
«Алина, Тамара, Оля», - повторяю я
все быстрее, не понимая, в какой миг срываюсь на громкий крик и
бросаюсь, вынуждаемая гнетом одиночества, на окно с кулаками. Вдруг
получится? Получится, и свет вернется обратно.
Но вместо этого я чувствую укол, не
успевая разбить костяшки в кровь, а за ним темноту. Хочу крикнуть,
что ее и так слишком много, не надо! - но она поглощает меня,
словно талая вода, смыкаясь над головой.
Его внимательные глаза сканируют мое лицо, словно собирая
информацию. Мне кажется, что я смотрю на себя чужим взглядом и вижу
плохо отмытую кожу под носом, с запёкшимися разводами крови;
короткую щетину темных волос, не имеющую ничего общего с модными
стрижками; родинку над верхней губой, не похожую на Монро, но
придающую лицу хоть какой-то цвет.
Темные ресницы на миг скрывают от меня мужской взгляд и стены
больницы, выкрашенные светло-зеленой краской, пряча от внешнего
мира, после чего я говорю:
– Гетерохромия.
Это первое слово на нас двоих, произнесенное в комнате за
последние пятнадцать минут. Шестнадцать.
– Да, — коротко отвечает он, хмурясь. Глаза у него голубые, но
радужка в левом окаймлена коричневой полосой, и мне нравится
наблюдать, как черные точки зрачков, направленные на меня,
становятся то больше, то возвращаются в прежнее состояние.
Конечно, я хочу знать, ради чего сижу напротив мужчины в темных
джинсах и легкой рубашке, на столе перед которым — мое личное дело.
Ничего интересного: за сочетанием букв и цифр скрывается история
болезни, которая не сможет объяснить несведущему, что творится
внутри моей головы и в глубине души, и уж тем более не расскажет,
через что приходится проходить по ту сторону свободы.
Я хочу знать, но не спрашиваю. Семнадцать минут.
Мы сидим в кабинете на втором этаже психиатрической больницы
специализированного типа с интенсивным наблюдением, и с посетителем
меня разделяет не только стол, не только больничная роба. Скорее
всего, закон: я преступница, он — обвинитель, я — вина, он — кара.
Я жду, когда признания польются из его рта, боясь не услышать
нужных слов, боясь, что мои голоса окажутся громче и в очередной
раз перекричат его.
«F20». Шизофрения. Может, поэтому они вещают с завидной
регулярностью, приглушаемые только уколами и таблетками в стенах
психушки, а, может, по иной причине, которую мне еще не удалось
выяснить, но иногда они очень мешают. А иногда, как сейчас,
затихают, лишь изредка оценивая внешность собеседника.
«Красавчик».
«Да-да, высокий, мне такие нравятся».