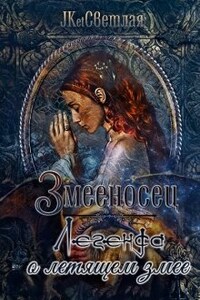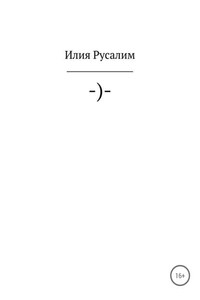Мы уже не те люди, которыми были в
прошлом году, не те и те, кого мы любим.
Но это прекрасно, если мы, меняясь, продолжаем любить тех, кто тоже
изменился.
Уильям Сомерсет Моэм
25 декабря 1925 года,
Лондон
Шкаф, стол, камин, ширма, кресло, окно…
Прервав беспорядочное движение по комнате, она застыла, глядя, как
темнеет на улице от затянувших небо туч. В комнате впору было
зажигать свет, но она не торопилась это сделать. В сгущающихся
сумерках было проще видеть призраков. Призраков, которых она звала,
и одновременно боялась, что они придут. Она видела себя
девятнадцатилетнюю. Восторженную, целеустремленную… Глупую! И
видела его. Но теперешнего. Такого, каким он запомнился в момент их
объяснения. Спокойного, сдержанного, все понимающего. Ведь она
знала, что он никогда не устроит сцены и примет все, что услышит.
Но как же она хотела, чтобы он хотя бы прикрикнул на нее. Чтобы
можно было заставить себя подумать, определить, решить.
Она протянула руку к окну и стала пальцем чертить на стекле
какие-то фигуры, узоры, линии. Лишь бы хоть что-то делать. Было уже
совсем темно, на улице бушевал неожиданный снегопад, а она
по-прежнему стояла у окна, всматриваясь в мокрую черноту. Продолжая
видеть на стекле его лицо. Его черты – глаза, нос, губы – она
обводила раз за разом. Не отпуская его и зная, как далеко он теперь
от нее.
Резко оттолкнувшись от подоконника, в который раз ринулась по
комнате. Люстра, торшер, бра, настольная лампа... Схватила ручку,
придвинула к краю стола лист бумаги и вновь замерла.
Декабрь 1910 года, Петербург
Он устало потер виски, толком не понимая, зачем это делают те, у
кого болит голова. Головной боли это решительно не снимает. Только
заставляет чувствовать себя еще более беспомощным.
Хотелось курить, но она не выносила запаха табака. Откуда он это
знал? Она говорила? Или догадался? Впрочем… что ж тут
удивительного, если он всегда и все знал про нее? Иногда лучше, чем
она сама. Даже теперь он был совершенно уверен в том, что сейчас
услышит.
К чему тянуть? Какой в том смысл?
Все и так было в ее глазах. А ведь еще только накануне в этих
глазах подрагивали, как пламя при шевелении воздуха, игривость,
кокетство и что-то еще такое, что он принимал за любовь. До того
странного мгновения, когда он сообщил ей о своем намерении жениться
на ней в самом скором времени. Будто задул свечу.
Наконец, он поднял взгляд и посмотрел на нее, в очередной раз
улыбнувшись при виде ее светленькой прелестной, почти кукольной
головки, с которой она упрямо не сняла шляпки. Николай замер,
напряженно вглядываясь в ее черты… Тоже немного кукольные,
капризные. И думал, что никогда не любил ее больше, чем в эту самую
минуту.
Клэр молча положила на столик у дивана маленький белый
сверток.
В тишине квартиры ее спокойный голос прозвучал слишком
громко:
- Adieu, Nicolas!
20 декабря 1925 года,
Лондон
Он не смотрел на часы. Он стоял у зеркала, поправляя манжеты
идеально белой рубашки, и отчего-то сейчас вглядывался в
собственное отражение. Но вглядывался равнодушно, будто бы перед
ним было не его лицо, но чье-то чужое. В свои без малого сорок
Николай Аристархович Авершин, профессор истории университета
Сорбонна, русский по происхождению, и на собственной шкуре
испытавший все прелести эмиграции, конечно, подыстрепался за
последний безумный десяток лет. Когда-то русые, чуть вьющиеся
волосы теперь тронула легкая седина, будто их притрусило пеплом. И
глаза будто бы посветлели, выцвели. Все прочее не шло с подобной
метаморфозой ни в какое сравнение.
Иногда он думал о том, как прожил эти годы. И, кажется, не находил
ответов. Он не вспоминал. Потому что воспоминания заставляли его
заглядывать в такую бездну, после которой почти уже невозможно
выбраться назад – не знаешь, надо ли. Вся та прежняя жизнь была
будто накрыта лоскутом непроглядно черной материи, занавешена,
скрыта от глаз. Казалось, вдохнешь один ее запах – станешь
задыхаться.