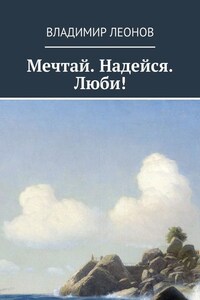За бревенчатыми стенами ветхого домика все громче и громче
раздавались крики обезумевших от ярости соседей.
Моя бабушка была в ужасе. Впервые за долгие годы я видела, как
из ее белесых глаз текут крупные горькие слезы, как дрожит
морщинистый узкий подбородок. Старушка, чьи руки всегда тряслись
непроизвольно, сейчас сжимала крючковатые пальцы в замок, чтобы
унять дрожь.
— Что ты наделала, Аннушка? — шептала она, и слезы капали с
кончика носа. — Разве ж этому я тебя учила?
Я растерянно захлопала глазами. Стряхнула налипшее на пальцы
тесто, вытерла ладони о фартук и сняла его.
Вот только вернулась из деревни и сразу принялась заводить тесто
на пироги, и никто меня вслед не проклинал. С Лукерьей так и вовсе
с улыбками помахали друг другу, когда я проходила мимо ее дома.
Так что успело приключиться за такой короткий срок?
Когда я решилась задать вопрос бабушке, разозленные невесть чем
соседки уже долбились в хлипкую дверь. И, судя по звуку,
вилами.
— Открывай, старая! — кричала Лукерья. — Открывай, иначе мы сами
зайдем!
— Зачем? — вопрошала старушка, ища ответ в моих глазах. — За что
ж ты так со мной?
А я не знала, что ей сказать. Я понятия не имела, что
происходит.
— Навались, бабы! — заголосила Лукерья, и тут же в тонкую
преграду ударилось что-то тяжелое.
— Аннушка! — крикнула бабуля и кинулась ко мне.
Я судорожно прижала к себе тощее старческое тело.
— Я ничего не сделала, ба, — всхлипнула я. — Что
случилось-то?
— Ничего? — Старушка подняла на меня глаза, полные слез. — А как
же Кузьма? Он всей деревне растрепал, что вы…
Договорить ей не дали. Под весом десятка разъяренных женщин
дверь не выдержала и слетела с петель.
Лукерья, моя родная тетка и жена Кузьмы, была крупнее всех своих
подруг, и именно она первая бросилась ко мне. Удерживая в одной
руке вилы, другой она одним взмахом оттолкнула свою мать к столу,
повалила меня на пол, схватила за шиворот и поволокла за собой на
улицу.
Теперь горячий страх обуял меня по-настоящему. Я завизжала,
уперлась ногами в валяющуюся на полу дверь, зацепилась бедром за
острый ржавый гвоздь и от боли вскрикнула еще громче.
Женщины плевались, тыкали в меня черенками, орали, и из того,
что я могла расслышать за собственным голосом, поняла: мне
конец.
Лукерья вытащила меня на крыльцо, сбросила в траву так легко,
как если бы я была тряпичной куклой ее младшей дочери.
Я вскочила на ноги. Раненое бедро тут же отозвалось резкой
болью.
— Выслушайте меня! — крикнула я во весь голос, но куда там — он
потонул в хоре соседок.
— Будешь знать, как с чужими мужиками кувыркаться!
Лукерья замахнулась вилами. Черенок со звоном ударился о мою
голову, и перед глазами запрыгали мушки.
— Я с ним не кувыркалась! — только и успела сказать я прежде,
чем снова оказалась на земле.
Лукерья волокла меня за руку, ее подруга, Верка, помогала ей и
тащила меня за вторую руку. От взбешенных женщин, тянущихся за
нами, пришлось отбрыкиваться и бить их ногами, за что на меня вновь
посыпался град ударов.
Яркое солнце слепило, и я жмурилась. Слезы текли по щекам,
капали с подбородка на грудь, а бедро все сильнее ныло от боли, и
она током прошибала каждую клеточку тела.
Бабушка бежала за нами так быстро, как могла. В ее возрасте бег
был сродни чуду, но она почти не отставала.
— Отпустите ее! — кричала старушка. — Отпустите, не то худо
будет!
Я не отрывала от бабули взгляда, пока она не рухнула в высокую
траву.
— Ба! — взвизгнула я и снова дернулась.
Запястье, за которое меня цепко держала Лукерья, хрустнуло. В
глазах потемнело, и я потеряла сознание.
Пришла в себя почти сразу, но уже в центре деревни. Звенел лай
собак, встревоженных непривычной суетой. Где-то вдалеке замычала
корова, а следом раздался детский плач.