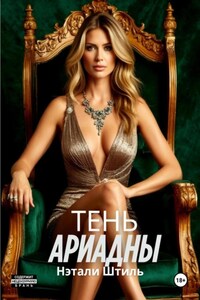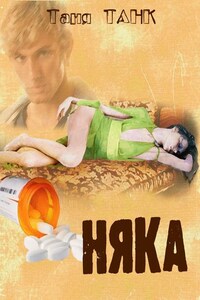Ноябрь вцепился в Москву мертвой хваткой, не по сезону злой и колючий. Ветер, родившийся где-то в стылых пустошах за городом, гнал по улицам ледяную крупу, сеча лица прохожих, забиваясь под воротники шинелей и скудных штатских пальто. Он выл в проводах, скрежетал сорванным листом жести на крыше и, казалось, пытался сорвать со шпилей кремлевских башен рубиновые звезды, но те упрямо горели во мгле, словно капли застывшей крови. Для следователя уголовного розыска капитана Андрея Седова этот холод был чем-то привычным, почти родным. Он не имел ничего общего с бодрящим зимним морозцем, который румянит щеки и заставляет смеяться. Это был холод из другого времени, из другого места – липкий, проникающий до костей, пахнущий мерзлой землей и порохом. Холод окопов под Ржевом, холод госпитальных коридоров, холод пустоты в глазах товарища, который уже никогда не поднимется из промерзшего снега. Седов научился жить с этим внутренним холодом, носить его в себе, как осколок, который врачи так и не смогли извлечь. Он делал его собранным, непроницаемым и невыносимо усталым.
Телефон в его кабинете на Петровке, 38, зазвонил резко, с надрывным дребезжанием, вырвав из тягучей полудремы. За окном уже сгустились ранние сумерки, превратив мокрый асфальт двора в черное зеркало, отражавшее одинокий желтый свет фонаря. Седов потер ладонями лицо, ощущая под пальцами колючую щетину и глубокие складки у глаз, которых не было еще четыре года назад. Война оставила на его лице свою карту, и маршруты на ней были безрадостными.
– Седов слушает.
Голос дежурного в трубке был будничным, лишенным эмоций, как сводка погоды.
– Андрей Петрович, тут труп у нас. Сретенка, дом двенадцать, квартира семь. Хозяйственный, по ножевому не проходит. Насильственная смерть по факту. Выезжайте. Участковый на месте.
– Понял, – коротко бросил Седов и положил трубку.
Никаких подробностей. Никаких вопросов. Просто очередной адрес, очередная оборвавшаяся жизнь. Рутина. Работа следователя состояла из этой рутины на девяносто процентов. Остальные десять приходились на бессонные ночи, горы бумаг и глухое, въедливое чувство, что ты вечно опаздываешь.
Он накинул на плечи потертую кожаную куртку, поверх – тяжелую серую шинель, натянул фуражку. Взгляд зацепился за фотографию на столе. Маленькая, в простой деревянной рамке. Анна и Игорь. Жена смотрела серьезно, с затаенной тревогой в глазах, которая появилась, кажется, с того самого дня, как он вернулся с фронта. А восьмилетний Игорек, худенький, бледный, улыбался, но даже на фото было видно, как трудно ему дается каждый вдох. Астма. Еще одно эхо войны, прокравшееся в их дом через сырые бомбоубежища и постоянный страх. Седов отвел глаза. Думать о них сейчас было непозволительной роскошью, это размывало фокус, мешало тому холодному, отстраненному состоянию, которое было необходимо для работы.
Сретенка встретила его тем же пронизывающим ветром и мокрым снегом. Старые доходные дома стояли плотно друг к другу, их темные фасады, испещренные шрамами от осколков, казались угрюмыми и нелюдимыми. Москва еще не залечила всех своих ран. Она напоминала ветерана, который сменил гимнастерку на пиджак, но под ним все еще носил старые бинты. У подъезда дома номер двенадцать его ждал молодой сержант, переминавшийся с ноги на ногу.
– Капитан Седов, – представился Андрей, кивнув.
– Сержант Климов, товарищ капитан. Я место оцепил. Никого не впускал, кроме судмедэксперта. Он уже наверху.
– Что у нас?
– Костин Семен Григорьевич, пятьдесят восьмого года рождения. Инженер. Соседка стучала, не открывал. Дверь не заперта была, она и вошла. А там… – сержант неопределенно махнул рукой в сторону темного провала подъезда. – В общем, на полу лежит. Голова пробита.