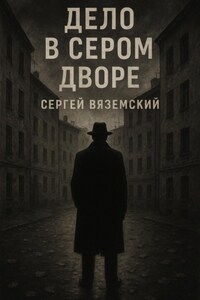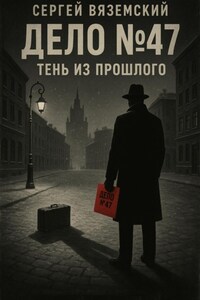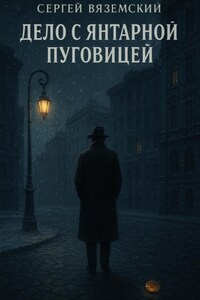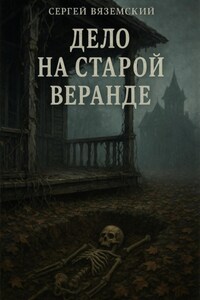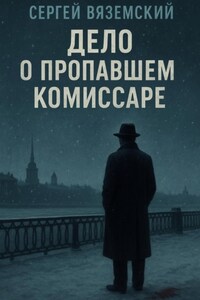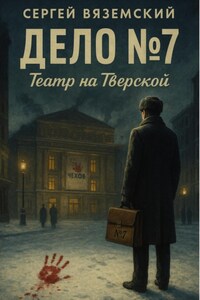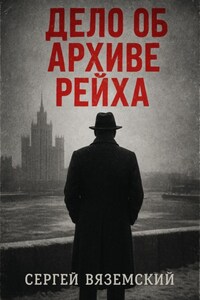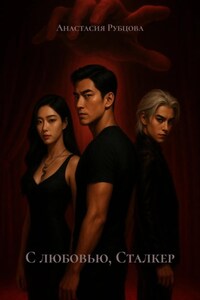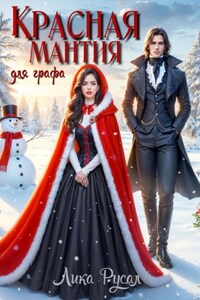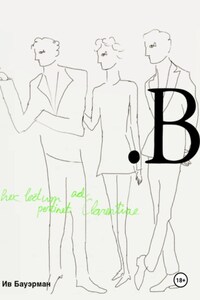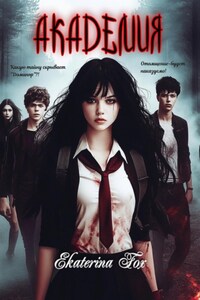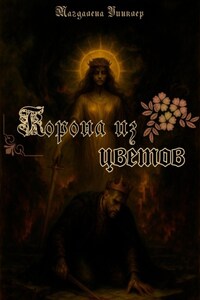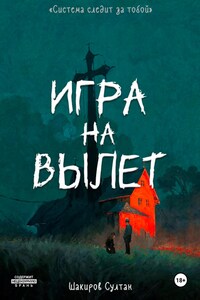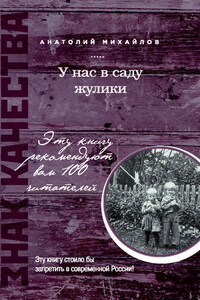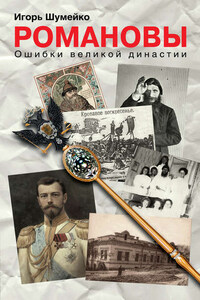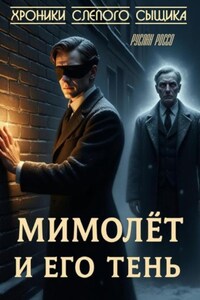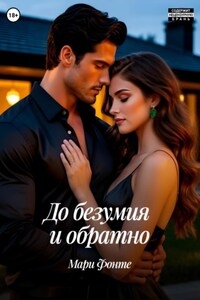Прощальное письмо без подписи
Осенний рассвет в Москве – это не пробуждение, а скорее нехотливое возвращение в сознание после беспокойного, тяжелого сна. Город не загорался светом, а медленно проявлялся из ночной серости, словно старая фотография в мутном растворе проявителя. Капитан Алексей Соколов почувствовал этот рассвет затылком, еще до того, как резкий треск телефона вырвал его из дремоты. Он спал, не раздеваясь, на жестком диване в своем кабинете на Петровке, подложив под голову свернутый в валик плащ. Так случалось все чаще. Работа высасывала все соки, оставляя лишь тупую усталость и привкус дешевого табака во рту.
Звонок был настойчивым, как зубная боль. Соколов, не открывая глаз, протянул руку, смахнул со стола пустую пачку «Беломора» и нащупал холодную эбонитовую трубку.
– Соколов, – хрипло произнес он.
– Алексей Кириллович, это дежурный, лейтенант Громов. У нас труп в Замоскворечье. Ордынский тупик, дом семь. Похоже, прыгун. Местный участковый уже там.
Соколов поморщился. Прыгун. Осенью их всегда становилось больше. Словно гнилые листья, люди срывались с карнизов, устилая мокрый асфальт. Безнадега, разлитая в стылом воздухе, проникала под кожу, в легкие, в душу, и кто-то не выдерживал.
– Что за дом? – спросил он, присаживаясь и нашаривая ботинки.
– Старый, доходный еще. Двор-колодец. Инженер какой-то молодой. Участковый говорит, чистое самоубийство. Записка при нем.
– Записка, значит, – Соколов нашел ботинки, сунул в них ноги. – Хорошо. Высылай машину. Эксперта и фотографа тоже.
Он повесил трубку и несколько секунд сидел неподвижно, глядя в мутное окно, за которым серый свет неохотно отвоевывал город у ночи. За окном моросил дождь – не ливень, а именно та мелкая, нудная изморось, которая пробирает до костей и делает весь мир одинаково бесцветным. Москва в октябре пятьдесят четвертого года была именно такой – серой, промокшей и уставшей. Война закончилась почти десять лет назад, но ее шрамы все еще зияли на фасадах домов и в глазах людей. Город строился, рос вверх сталинскими высотками, гудел автомобилями и трамваями, но под этим внешним оживлением, под парадной штукатуркой скрывалась все та же послевоенная тоска и недоверие.
Соколов поднялся, подошел к умывальнику в углу кабинета. Плеснул ледяной водой в лицо, растерся жестким вафельным полотенцем. Взглянул на свое отражение в мутном зеркальце. Усталый сорокалетний мужик. Глубокие морщины у глаз, складка горечи у рта. Глаза – выцветшие, серые, как октябрьское небо, – видели слишком много, чтобы сохранять блеск. Он натянул китель, проверил, на месте ли удостоверение и пистолет, накинул свой вечный, потертый на сгибах кожаный плащ, который давно уже стал его второй кожей. Запах этого плаща – смесь табака, дождя и чего-то неуловимо казенного – был запахом его жизни.
«Победа» ждала у подъезда, фыркая сизым дымком. Водитель, молодой сержант Колька, молча кивнул и тронул с места. Машина покатила по пустынным утренним улицам. Дворники в синих фартуках скребли по асфальту метлами, разгоняя палую листву. Редкие прохожие спешили на ранние смены, кутаясь в пальто и плащи. Город казался вымершим, декорацией к фильму, из которой ушли все актеры.
Ордынский тупик оказался именно таким, каким его представлял Соколов. Узкий, зажатый между двумя обшарпанными громадами старых домов. Их двор-колодец был похож на каменный мешок, на дне которого вечно царил полумрак. Небо виднелось лишь маленьким серым клочком где-то высоко вверху. Воздух здесь был спертый, пахнущий сыростью, прелыми листьями и чем-то еще, неуловимо кислым – запахом безысходности.
У арки, ведущей во двор, их уже ждал участковый, молоденький лейтенант в намокшей шинели. Рядом с ним стоял пожилой дворник в ватнике и с метлой в руках – видимо, тот, кто и обнаружил тело.