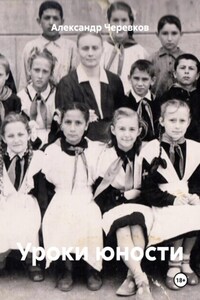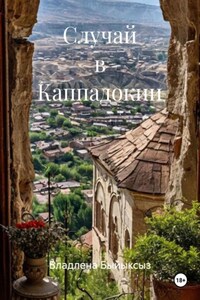Ветер с Невы, промозглый, колючий, нес с собой не просто холод, а саму суть ленинградского декабря, его безнадежную серость и стылое оцепенение. Он пробирался под воротник тяжелого драпового пальто, заставляя Аркадия Лаврова глубже втянуть голову в плечи и плотнее нахлобучить шляпу. Телефонный звонок, вырвавший его из полудремы в казенной комнатушке на Литейном, 4, был таким же резким и неприятным, как этот ветер. Дежурный говорил отрывисто, без лишних эмоций, будто зачитывал сводку погоды, а не сообщал о смерти человека: Литейный проспект, дом двадцать шесть, лавка антиквара Гуревича. Труп. Возможно, ограбление. Выезжайте. Лавров выехал.
Снег, начавшийся еще с полудня мелкой, назойливой крупой, к ночи повалил густыми, тяжелыми хлопьями. Он ложился на гранитные набережные, на чугунные решетки оград, на купола и шпили, укутывая город в белый саван, приглушая редкие звуки и стирая очертания. В желтом свете уличных фонарей, окруженных кружащимся хороводом снежинок, Ленинград казался призрачным, вымершим. Редкие прохожие, согнувшись, спешили по своим делам, стараясь как можно быстрее укрыться в тепле подъездов, оставив улицы во власти непогоды и тишины. Тишины, которая в этом городе всегда была обманчивой, напряженной, полной невысказанного страха.
Автомобиля ему не полагалось, не тот ранг, да и не та срочность, по мнению начальства. Обычная бытовуха, как они это называли. Грабители залезли к старому скупщику, тот оказал сопротивление – получил по голове. Дело ясное. Лавров сел в дребезжащий вагон трамвая, пропахший мокрой одеждой, табачным дымом и чем-то еще, кислым и застарелым. Пассажиров было немного: уставшая женщина с авоськой, из которой торчал краешек буханки черного хлеба, два красноармейца, тихо переговаривавшиеся о чем-то своем, и старик в пенсне, дремавший над газетой «Ленинградская правда». Лавров смотрел в заиндевевшее окно, на проплывающие мимо монументальные фасады доходных домов. За их стенами, в тускло освещенных комнатах, шла своя, скрытая от посторонних глаз жизнь. Люди любили, ненавидели, предавали, боялись. Боялись стука в дверь посреди ночи, неосторожно сказанного слова, косого взгляда соседа по коммунальной квартире. Этот страх въелся в стены, в воздух, он был таким же неотъемлемым атрибутом города, как шпиль Адмиралтейства или разводные мосты. И убийство, даже самое обычное, бытовое, в этой атмосфере всеобщего недоверия и подозрительности приобретало зловещий оттенок.
Дом номер двадцать шесть был массивным, в стиле северного модерна, с лепниной, эркерами и угрюмыми маскаронами, взирающими с высоты на проспект. У входа в полуподвальное помещение, над которым висела потускневшая вывеска «Антиквариатъ. И.Л. Гуревичъ», с твердым знаком на конце, упрямо пережившим революцию, его уже ждали. Молоденький сержант милиции, совсем еще мальчишка, топтался на месте, переминаясь с ноги на ногу, чтобы согреться. От его валенок на припорошенном снегом тротуаре остались две темные проталины. Увидев Лаврова, он вытянулся, козырнул.
– Сержант Морозов. Участок оцепил, товарищ следователь. Никого не впускали, не выпускали. Кроме доктора, разумеется. Он уже внутри.
– Что у нас? – спросил Лавров, стряхивая снег с полей шляпы.
– На первый взгляд, ограбление, – отрапортовал сержант. – Дверь была не заперта, соседка сверху, гражданка Потапова, заметила, пошла проверить. Ну и… обнаружила. Крику было на весь дом. Мы приехали, осмотрели. В дальней комнате сейф, железный ящик то есть. Вскрыт и пуст. Беспорядок кругом.
– Понятно. Потапова где?
– Дома у себя, на втором этаже. Я велел ждать. Она в шоке, конечно, валерьянку пьет. Говорит, знала покойного лет двадцать. Тихий был старик, одинокий.