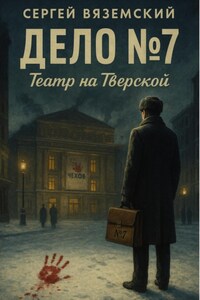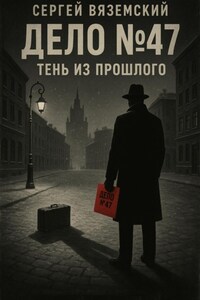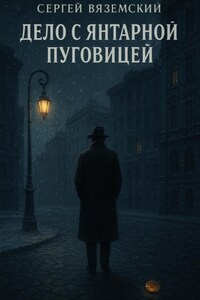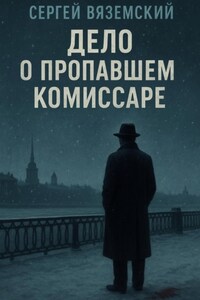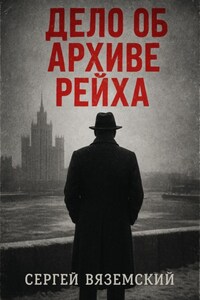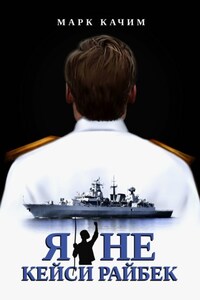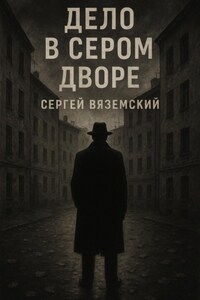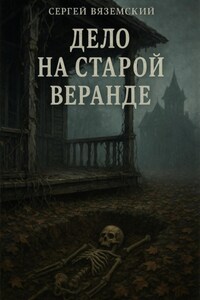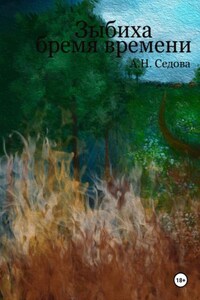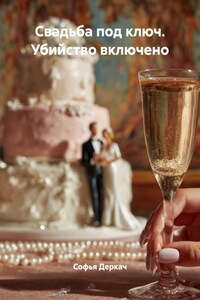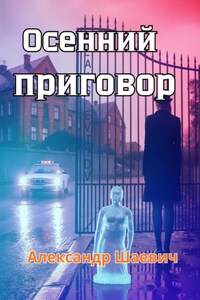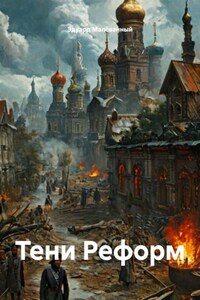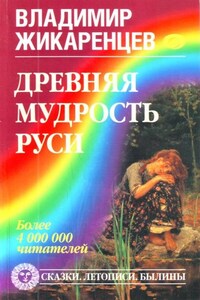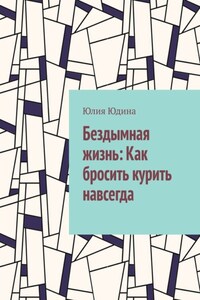Снег шел второй день. Не тот декабрьский снежок, что бодрит и обещает мандарины с елкой, а тяжелый, мокрый, безвольный снег, какой бывает в самом конце года, когда время будто устало и само хочет замереть. Он падал на Москву, как пепел, как бумага из списанных архивов, тихо и без смысла. Он ложился на карнизы сталинских громад, на обледенелые провода троллейбусов, на шапки редких прохожих, превращая их в безликие, движущиеся сугробы. Город тонул в этой белой тишине, и звуки в ней вязли, становились глухими: скрип тормозов «Москвича» у перекрестка, редкий окрик постового, далекий, почти призрачный бой кремлевских курантов.
Следователь Алексей Кожин шел по Пресне, возвращаясь с Петровки. Он не любил транспорт в такую погоду. В трамваях пахло мокрой шерстью пальто и безысходностью, в автобусах – перегаром и чужой усталостью. Пешком было честнее. Холод пробирал сквозь добротное, но уже потертое на сгибах драповое пальто, заставляя глубже втягивать голову в плечи. Под ногами хрустела и чавкала серая каша из снега, соли и городского отчаяния. Фонари зажигались рано, их желтый, больной свет выхватывал из сумерек куски реальности: обшарпанный фасад дома с трещиной, похожей на вену; очередь у хлебного, молчаливую и неподвижную, словно отлитую из чугуна; женщину, с трудом толкающую перед собой детские санки с бидоном молока. Лица людей казались выцветшими, как старые билеты в кино, где фильм давно кончился.
Пресня дышала по-своему. Не так, как парадная, вычищенная улица Горького, и не так, как властная и молчаливая Лубянка. Пресня была старой, рабочей, немного обиженной. Здесь в воздухе висел невидимый дым давно потухших паровозов и недавних кухонных ссор. Дома стояли плотно, плечом к плечу, и смотрели на мир мутными окнами коммунальных квартир, в каждом из которых горел свой тусклый свет, своя маленькая, отдельная жизнь, отгороженная от других тонкой стеной. Кожин знал этот район до последнего кирпича, до последней выбоины в асфальте. Он был частью этого пейзажа, таким же серым и незаметным, как старый голубь на карнизе.
Он жил здесь почти всю свою жизнь после переезда из Тулы. Сначала с матерью, в крохотной комнате, где пахло лекарствами и ее тихой печалью. Потом один. Потом с Аней. Потом снова один. Комната оставалась той же, только вещи менялись. И тишина. Тишина после ухода Ани была другой. Не спокойной, а пустой, звенящей. Она ушла «к человеку с машиной». Так просто и так исчерпывающе. Начальник какого-то треста, с «Волгой» и дачей. Кожин не винил ее. Он просто не мог дать ей того, чего она хотела: ясности, комфорта, будущего, которое можно было потрогать руками, как импортную дубленку. Он мог предложить только свою честность, которая в этом мире стоила меньше дефицитной банки зеленого горошка. Он помнил их последний разговор. Вернее, ее монолог. Она говорила о том, что устала ждать, устала от его вечной работы, от его молчания, от запаха казенной бумаги, который въелся в его одежду. «Ты как будто не живешь, Алеша, а составляешь протокол о жизни», – сказала она. И в этом была доля правды. Он искал факты, улики, мотивы. А жизнь состояла из другого – из мелочей, полутонов, недомолвок. Из того, что в протокол не занесешь.
Он свернул в свой двор-колодец. Здесь снег лежал почти нетронутым, белым саваном покрывая заледенелые качели и ржавую горку. Ветер завывал в арке, и этот звук был похож на плач. Подъезд встретил его знакомым смешанным запахом – вареной капусты от соседей сверху, дешевого табака «Прима», которым дымил на лестнице инвалид дядя Миша, и еще чем-то старым, кислым, запахом самой communal life, общей жизни, где не было ничего по-настоящему своего, кроме мыслей. Он поднялся на свой третий этаж, старая деревянная лестница скрипела под ногами, как будто жаловалась. На площадке тускло горела одна лампочка под потолком, оплетенная паутиной.