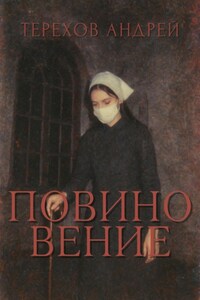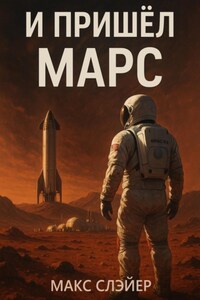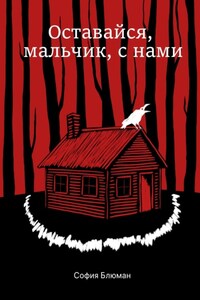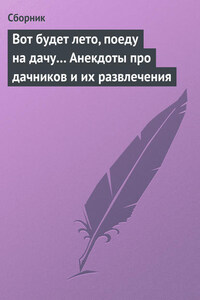Холод висел в коридоре едкой плёнкой, как потухшая коптилка. Энн Николь помнила её запах. Тот самый, что стоял в комнате после того, как унесли Лиззи. "Не рыдай, – шептала тогда Агата Торн, – слёзы – это неподобающая роскошь. Ты ещё узнаешь, какая честь тебя ждёт". Честь. Энн сжала крошечный клочок бумаги, впившийся ей в ладонь. Всего одно слово. Оно жгло кожу куда сильнее, чем утренний холод.
Высокие окна с молочными стёклами пропускали свет скупо, а туман за ними лизал стекло, превращая мир в мутное серое варево. Камень под ногами был старым, холодным и – казалось – слегка дышал. Половиц не было. Камень отвечал шагам глухо, будто прислушивался.
Тишина здесь не была просто отсутствием звука. Она была густой, вязкой, с собственной массой. В ней слышалось, как обшивка двери впитывает влагу, как где-то в глубине здания скрипит забытый клин. Тишина стояла такая, что могла бы заглушить собственный крик, родись он у кого-то в глотке.
Потом – металлический щелчок старинных часов: раз. Пауза. Два. Пауза. Три. И уже без пауз – семь. Ровно 7:00.
Дверь класса распахнулась без стука, будто разрезала плёнку тумана. В проёме встала Агата Торн: строгая, собранная, лицо – как застёгнутый на все пуговицы френч. В руке – связка ключей, и один не простой: головка, отлитая в форме короны, черным металлом, глухим к свету.
– Пятиминутка тишины.
Её голос не требовал подчинения; он констатировал закон. Воздух сгустился.
В классе сидели семь девочек в одинаковых темных платьях. Они напоминали срезанные цветы в вазе – красивые, но уже увядшие. По росту, по парте, по невидимой линии, как штыки, будто их выровняли по невидимому уровню. Они замерли ещё до команды – команды здесь никогда и не требовалось повторять дважды. В первом ряду – Энн Николь: хрупкие плечи, большие глаза, слишком глубокие для её возраста. Руки на фартуке. Только сухожилия на тыльной стороне ладони дрогнули – и застыли. Статуи дышат почти незаметно. Они словно куклы, готовые к действию по команде.
Под ножкой стола у кафедры торчал клин – незаметный, выравнивающий мебель на кривом полу. Здесь ровность была не удобством, а обетом.
На столе Агаты лежала печать: та же корона, что на ключе, только массивная, холодная. Рядом – журнал с пустой графой для подписи. Бумага молчала, зная своё место. Песочные часы на кафедре были нелепо огромными: две стеклянные колбы на чугунной раме. Песок в верхней – полный, но не тёк. Будто чья-то воля держала его взаперти.
Агата опустила ключ на стол. Металл звякнул о металл – громче, чем следовало. Эхо прокатилось по камням и вдруг глухо споткнулось, будто наткнулось на невидимую стену.
Песок в часах – заключённое в стекло время – содрогнулся. Не потек – судорожно вздохнул комком, будко пытаясь сбросить невидимые оковы. Одна песчинка-одиночка сорвалась и застряла в горлышке, будто не решаясь упасть в бездну непоправимого события. Девочки не подняли глаз, но у одной веки дрогнули – мелькнул трепет пойманной птицы за стеклом. Энн не шевельнулась, высеченная из мрамора тишины. Только пальцы впились в фартук на миг – бессловесный крик – и отпустили.
Агата взяла перо. Чернильная капля упала рядом с пустой графой, как предчувствие. Подпись вывела чётко, без росчерков – будто вырезала ножом. Печать опустила сверху.
Тук.
Звук осел в костях.
– Приступай.
В этот миг дверь снова приоткрылась. Вошёл мужчина крупного телосложения. Его шаги были редкими и тяжёлыми, как удары молота по камню. Девочки не обернулись – здесь никто никогда не оборачивался. Но каждая знала его.
Король.
Энн сжала в ладони крошечный клочок бумаги. Одно слово. Бумага липла к пальцам, как если бы знала, что сегодня будет поздно.