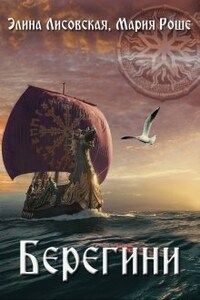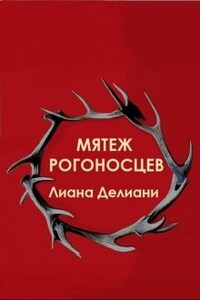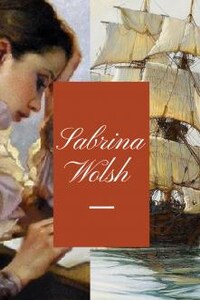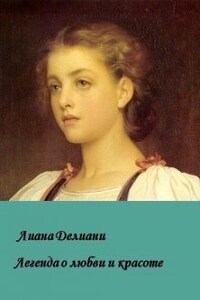Вот уже много лет память безо всякого милосердия по ночам
напоминает мне о самом страшном дне жизни. Дне, когда я узнала о
смерти родителей.
Сон всегда начинается одинаково. Вечером на пороге нашего дома
вместо улыбающейся матушки в плаще с меховой опушкой и отца,
отряхивающего с пелерины снег, появляется мой дядя. Он кладёт мне
на плечо тяжёлую, как камень из реки, руку и молча ведёт в
гостиную, где тени, порождённые пламенем камина и густыми
сумерками, танцуют странный, фантасмагорический танец на стенах. Он
усаживает меня в кресло и кладёт на колени матушкино кольцо с
кроваво-красным камнем, и оно расчерчивает алыми лучами голубую
ткань юбки. Он смотрит мне в лицо прямым, твёрдым взглядом и
говорит, говорит, говорит те самые страшные в мире слова, от
которых я захожусь криком и сползаю по мягкой обивке кресла на
пол…
Кто-то скажет, что ему стоило как-то подготовить меня, быть в
тот вечер поласковее, но он сообщил мне о смерти родителей без
всякого милосердия, и боль хлынула, как лавина, охватив каждый дюйм
тела. Может быть, он поступил правильно. Если бы он пришёл и
сказал: «Милая Беатрис, мамочка с папочкой поселились в райских
кущах и поют с ангелами», я бы никогда не смогла ему верить. После
смерти родителей он стал моим опекуном, забрал в свой вечно
пустующий дом, даже заботится обо мне по мере возможностей. И всё
же я искренне рада, что вижу его не чаще пары раз в год. Мой дядя –
тяжёлый человек, погружённый в себя и свои дела, со взглядом, будто
бы направленным вглубь мыслей, но не на тебя. При встрече мы с ним
обсуждаем в основном такие важные вещи, как деньги на булавки и
успехи во французском и неудачи в рисовании. Дядя больше проводит
времени на материке, нежели в своём лондонском доме, занимаясь
делами, которые моему девичьему разуму неподвластны, впрочем, как и
всё, что связано с политикой. Но я рада, что он у меня есть. Со
временем я научилась ценить это.
Иногда мне снятся их похороны. Белый, как молоко, туман,
слизывающий остатки снега, скрывающий далёкие очертания скорбящих
ангелов и величественных ваз, лепнину стен склепа нашей семьи, и
только два гроба из тёмного дерева чернеют на его фоне. Плачущая в
белый платок миссис Милсом, каменное и серое, как лондонский снег,
лицо дяди и слёзы, которые стекают по шее на воротник платья и
холодят кожу до самой груди.
После таких снов я долго пытаюсь прийти в себя. Целое утро я
сижу над чашкой чая и не могу выпить ни глотка, все мои мысли
заняты только белым туманом и ощущением холода от мокрого воротника
платья. В пансионе в такие дни на меня смотрят как на призрака,
девочки ещё сильнее сторонятся меня, а летом, когда я приезжаю в
лондонский дом дяди, миссис Милсом с тревогой укутывает мои плечи
шалью даже в самые душные дневные часы и неизменно наказывает
кухарке приготовить мой любимый пирог с клубничным джемом.
Несмотря на её заботу, я не люблю покидать пансион. Дядя живёт в
старом доме, где ещё сохранилась комната матушки, в которой она
жила до замужества. Там она играла с куклами, вышивала, примеряла
платья для балов. Я так и не нашла сил зайти в её комнату после
похорон. Она закрыта уже много лет, и если мне доводится проходить
мимо, я глубоко вздыхаю и крепко смыкаю веки, чтобы не видеть, как
из-под двери просачивается лучик света и чтобы из глаз не брызнули
слёзы. Каждый раз, когда я набираюсь смелости попросить у миссис
Милсом ключ от матушкиной комнаты, я чувствую жжение в уголках глаз
и понимаю, что не готова.
В ночь перед отъездом мне снова приснилось кладбище, но утром
моя задумчивость осталась незамеченной: едва забрезжило, миссис
Милсом и я выехали из Лондона в пансион, где меня будут обтёсывать
ещё один год, после чего дядя отведёт меня под венец и передаст из
рук в руки какому-нибудь лондонскому хлыщу с напомаженными усами. И
вздохнёт спокойно – одной обузой меньше. Хотя, скорее всего, дяде
без разницы, будут у хлыща усы или нет, главное, чтобы был
приличный годовой доход и какое-никакое имя. Во время ежегодной
аудиенции этим летом мы с ним так и не коснулись этой темы, которой
я так боялась, поэтому она откладывается до следующего лета.