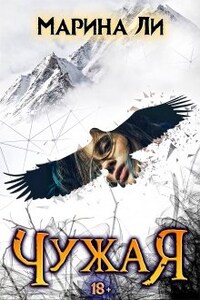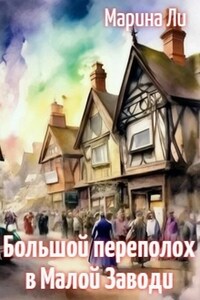Нас называли детьми Самой Последней Войны. Именно так, все три
слова с заглавной литеры, будто кто-то и в самом деле верил, что
эта война окажется последней. Впрочем, кто его знает, в этот раз
К'Ургеа, которых у нас иначе как «дикарями» не называют, понесли
такие большие потери, что оправятся нескоро, если вообще
когда-нибудь смогут. Именно их плачевное состояние и разруха стали
причиной того, что года три назад кто только не болтал о том, что
Короне не помешало бы подсуетиться и дожать извечного врага.
Виданное ли дело – такие земли пропадают! Такой лакомый кусочек, о
который не одно поколение наших воинов зубы сломало. В общем, народ
весьма откровенно и непрозрачно намекал, а Корона отказывалась
понимать намёки и признавать, что за две тысячи лет подсадила нацию
на наркотик по имени «война».
От мирной жизни народ откровенно ломало. Однако правительство
довольно быстро нашло лекарство от этой напасти: укоротило языки
болтунам, а самых активных милитаристов и вовсе отправило на
рудники. И с тех пор о войне старались вообще не говорить и по
возможности не думать. Разве что мы, дети этой Самой Последней
Войны, смело высказывались на любую тему и ничего не боялись.
Особенно те из нас, на чьём запястье красовался трёхглавый пёс,
оскаливший все свои пасти, – знак принадлежности Короне.
Прекрасно помню тот день, когда инспектор прижал раскалённую
королевскую печать к моей руке. Я так орала от боли, что к чертям
собачьим сорвала голосовые связки и два дня после этого не могла
нормально разговаривать, только хрипела да костерила на чем свет
стоит свою треклятую жизнь. А ещё я с тех пор не могу есть мясо с
огня. Как почувствую запах шашлыка, так и выворачивает сразу
наизнанку... Хорошо, что хоть не от всего мяса блевать хочется, а
то тяжко бы мне пришлось. У Гончих мясо в меню первой строчкой
стоит.
Помню, возвращаясь с первого рейда, я отстала от группы и
куратора, остановилась у лавки мясника и долго гипнотизировала
взглядом сочащуюся кровью говяжью вырезку, а потом всё-таки не
выдержала, зашла внутрь и потратила половину своей стипендии на
этот вожделенный кусок мяса. И пусть в столовке нас кормили как на
убой, и всего-то и нужно было, что потерпеть часа полтора до ужина,
но нет... Расплатившись с мясником, я упала на лавочку в городском
парке, потеснив двух алкашей. Трясущимися руками вскрыла бумажный
пакет и впилась в свежайшую говядину, чувствуя, как от
металлического привкуса крови, разлившегося во рту, сводит живот и
немного кружится голова. Какая-то мамашка коротко вскрикнула и
поторопилась увести своё чадо из парка, алкаши на всякий случай
пересели на соседнюю лавочку, а я глотала куски сырого мяса, щедро
приправленного собственными слезами, и ненавидела солнце, лето,
парк, город, да и всю свою жизнь...
А как бы замечательно всё могло сложиться, не подбери меня на
развалинах разбомбленного дома старый солдат! Ведь можно было
избежать и десяти голодных безрадостных лет в мрачном приюте святой
Брунгильды, и последовавших за ними ещё десяти в училище, вполне
себе сытых, но не более радостных. И уж точно я сейчас не сидела бы
у окна скоростного экспресса, который через двадцать минут унесёт
меня к Западному Сектору. Я бы уже двадцать лет как в могиле
лежала.
Двадцать лет...
Война закончилась шестого августа, а меня в приют святой
Брунгильды принесли тридцатого июля. Нашёл меня солдат по фамилии
Марко, и по традиции на его фамилию меня и записали. Монашку, что
открыла дверь старику, звали Ивелина, так что с именем тоже не
особо мудрили. Она с охотой приняла меня из рук солдата и
поторопилась в кабинет матери-настоятельницы. Вечером того же дня
меня окрестили Агнессой Ивелиной Брунгильдой Марко. Из сотни
девочек, живших со мной под одной крышей первые десять лет моей
жизни, добрую половину звали Агнессами – уж и не знаю, благодарить
ли мать-настоятельницу за то, что она одарила нас своим именем.
Лично мне всегда казалось, что тщеславие – это не та черта
характера, которой может гордиться монахиня, но моего мнения, само
собой, никто не спрашивал. Ну, по крайней мере начиная лет с трёх.
Именно с этого возраста я себя более-менее отчётливо стала
осознавать как отдельную личность, а не часть массы, гордо
именующей себя «Приют для девочек-сирот при монастыре святой
Брунгильды Аполлонской».