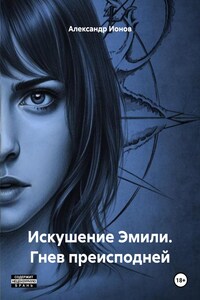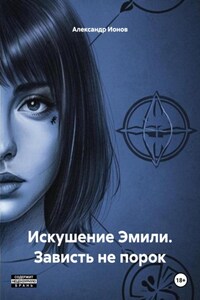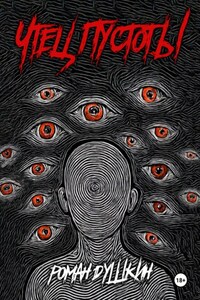Поздний октябрь выдохнул на мир ледяную, колючую морось. Она не падала, а висела в воздухе, плотным серым саваном, пропитанным запахом гниющих листьев, сырой земли и металлической остротой далекой, несостоявшейся грозы. Туман, рожденный влагой и дыханием гор, стлался по узкой горной дороге, цепляясь за обочины, скрывая пропасти и превращая путь в бесконечный серый туннель. Свинцовое небо нависало так низко, что казалось, вот-вот раздавит черные, остовоподобные сосны, стоявшие безмолвными стражами по краям асфальта. Ветра не было. Только мертвая, влажная статика, пробирающая до костей даже сквозь сталь и стекло.
По этой ленте гниющего асфальта, петляющей вверх в небытие, рвался ярко-красный спортивный купе. Когда-то символ дерзости и успеха, он сейчас казался кричаще неуместным – клоун на похоронах. Густая, как деготь, грязь покрывала его низ и колесные арки. Боковые стекла и зеркала были забрызганы коричневыми разводами. Дворники с трудом отвоевывали у мутного лобового стекла полосы видимости, искажая и без того скудный, серый пейзаж. Внутри пахло дорогой кожей, сыростью и чем-то еще – едва уловимым, горьким, как порох или страх.
За рулем, вцепившись в шершавую кожу обода так, что костяшки пальцев побелели, сидела Эмили Блэк. Поза ее была неестественно прямой, напряженной, будто выточенной из льда. Лицо, обычно привлекательное с четкими скулами и сильным подбородком, сейчас было бледной маской. Кожа почти прозрачная от усталости и недосыпа, подчеркнутая глубокими, лиловыми тенями под глазами. Но главным были глаза. Карие, когда-то теплые и умные, сейчас они горели изнутри сухим, тлеющим огнем. Зрачки, расширенные темнотой и адреналином, были прикованы к дороге, но видели не ее. Взгляд был обращен внутрь, в ад, который она носила с собой. Мокрые пряди темно-каштановых волос прилипли ко лбу и вискам. На губах – тонкая, бескровная линия. Дорогая бордовая водолазка цвета запекшейся крови и черные джинсы впитывали сырость салона. Никакой косметики. Только призрачные дорожки высохших слез на щеках.
Рев двигателя, заглушаемый шумом дождя по крыше, был единственным звуком в гробовой тишине. Руки Эмили автоматически поворачивали руль, тело реагировало на изгибы дороги, но разум был в другом времени, в другом месте.
Вспышка. Кассандра. Не растерянность – чистый, немой ужас в огромных синих глазах сестры. Глаза, расширенные до предела, полные непонимания и… предательства. Капли слез, застывшие на ресницах. Бледные губы дрожали, пытаясь сложиться в ее имя: "Эм… Эмили?" Звука не было. Только этот взгляд, пронзающий сейчас острее любого ножа. (Неосознанно, Эмили дернула руль. Шины коротко визгнули на мокром асфальте, машину слегка бросило в сторону. Она судорожно выровняла курс, сердце бешено заколотилось в груди).
Вспышка. Кабинет Лоренцо. Хаос материальный. Массивный дубовый стол перевернут. Стул с отломанной ножкой. Книги, бумаги, осколки хрусталя – все разбросано, растоптано. И ковер. Густой, персидский ковер. На нем – темное, растекающееся пятно. Не просто красное – бордовое, почти черное в складках ворса. Форма пятна была ужасающе, интимно знакомой. И запах… Медный, сладковато-тошнотворный запах крови, въевшийся в дорогой табак и духи Лоренцо. (Эмили резко вдохнула, будто этот смрад стоял в салоне. Челюсти сжались так, что заныли виски. В горле подкатил ком тошноты).
Вспышка. Зеркало заднего вида. Не сейчас – тогда. Ее собственное отражение в зеркале роскошной ванной Лоренцо. Лицо, которое она знала, но не узнавала. Те же черты, но искаженные чем-то чужим, первобытным. Глаза – не ее глаза. Ни паники, ни сожаления. Только ярость. Глубокая, всепоглощающая, белая ярость, искажавшая черты в звериный оскал. Ярость на Лоренцо за его ложь и манипуляции. На Кассандру за ее слепую наивность. На себя – за то, что позволила всему этому случиться, за то, что стала этим… За весь проклятый, жестокий мир, загнавший ее в угол и вынудивший выпустить наружу того монстра, которого она всегда чувствовала в себе, но сдерживала стальными обручами воли. (Сейчас Эмили поймала свое отражение в автомобильном зеркале заднего вида. Тлеющий огонь в глазах все еще был там, приглушенный усталостью, но живой, опасный. Она резко отвернулась, как от прикосновения раскаленного железа).