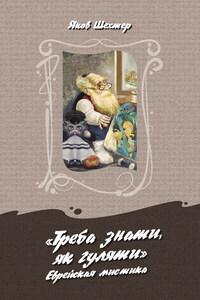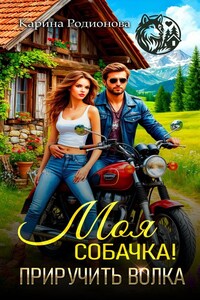Вода обжигала холодом, проникала под кожу, впитывалась в поры, делала ветхую ткань тряпки тяжёлой и заставляла кости ныть тупой, однообразной болью. Ариэль Коста не мыла пол – совершала ежедневный ритуал унижения, где ведро с ледяной и грязной водой служило чашей с осквернённой святыней.
Движения были лишены всякой воли: размеренные, заученные, рабские. Грубый холст платья, выданного ей, натирал кожу выше колен, оставляя красные, воспаленные полосы. Каждый мускул в пояснице кричал от протеста, выстроившись в одну напряженную, гудящую струну. Но останавливаться было непозволительно. Остановка означала бы признание – признание боли, тяжести, а значит, даровала бы ему еще одну крохотную победу. Потому тряпка без устали водила по мрамору, выписывая бессмысленные, бесконечные круги, втирая в камень запах хлорки, который давно вытеснил из обоняния все другие запахи мира. Даже запах страха.
Особняк дышал чужим, враждебным дыханием, где-то далеко, за тяжелыми дубовыми дверями гостиной, доносились приглушенные голоса, мужской смех, лязг стекла о стекло. Они пили, постоянно пили. Дорогой виски отца из хрустальных графинов матери. Этот звук стал саундтреком нового существования – вечным праздником победителей на костях побежденных.
Взгляд сосредоточился на узоре мрамора. «Арабескато…» – прошептала беззвучно, одними губами. Итальянская разновидность, добываемая в карьере близ Каррары. Белый фон, прожилки приглушенного серого и едва уловимое, словно призрак, мерцание золота. Отец выбирал его лично, говорил, что это – застывшее небо перед грозой. И вот, она водила по этому небу мокрой тряпкой, и казалось, что стирает звезды, стирает саму память о почившем доне Коста. Распухшие от воды пальцы наткнулись на едва заметную щербинку, небольшую трещинку, в которую всегда забивалась грязь. Ледяной укол пронзил воспоминание – резкий и безжалостный.
Ариэль неслась на роликах по отполированному до зеркального блеска полу, раскинув руки, словно птица. Девять лет, и весь мир лежал у ног, сияющий и принадлежащий ей. Крик восторга застрял в горле, когда колесо зацепилось за край ковра. Неловкое падение, скрежет, от которого заныли зубы, резкая боль в колене. И этот звук – ужасный, необратимый звук раскалывающегося камня. Лежала, боясь пошевелиться, глядя на зияющую трещину в идеальном мраморе, и ждала гнева. Ждала, что сейчас прибегут охранники, служанки, что отец… Но отец подошел не спеша, опустился на корточки, и дорогие туфли оказались на одном уровне с заплаканными глазами. Он не смотрел на пол, смотрел на свою любимую дочь, которая заменила ему все радости жизни, которые он на мгновение потерял из-за смерти жены при родах. Большие, теплые руки подхватили, подняли на ноги.
– Ничего, сокровище мое, – голос был спокоен и полон скрытой улыбки. – Ничего, это теперь наша с тобой тайна. Самая дорогая трещина во всем мире. Ты ее сделала, значит, она особенная.
Отец не отругал, просто позвал мастера, который аккуратно заполнил скол прозрачной смолой, и с тех пор только они вдвоем знали, где он находится. Тайна, сокровище.
Теперь же это была просто щель, которую его дочь обязана была каждый день оттирать от грязи.
Возвращение в реальность всегда приходило не через плавный переход, а болезненным толчком. Громкий, развязный смех из-за двери внезапно стал ближе – кто-то вышел в холл. Ариэль съежилась, вжалась в себя, стараясь стать еще меньше, еще незаметнее, сердце заколотилось где-то в горле, глухо и часто, точно птица в клетке. «Призрак, – судорожно пронеслось в сознании. Я призрак. Призраков не замечают. Призраки не существуют».