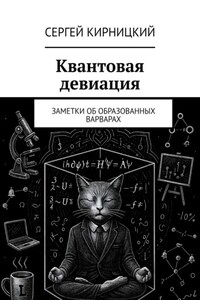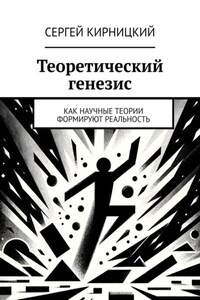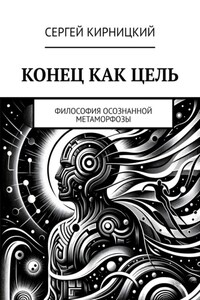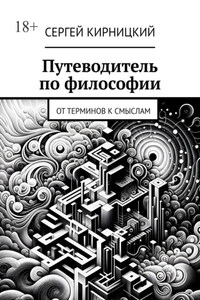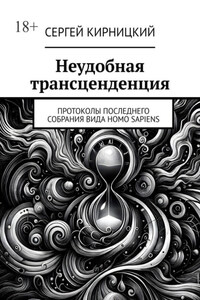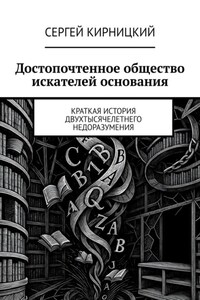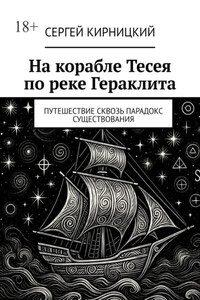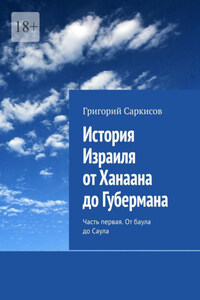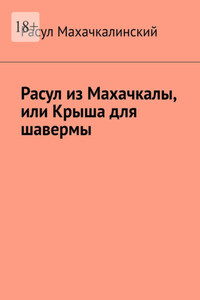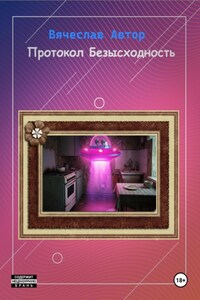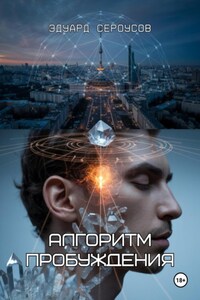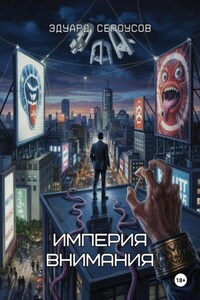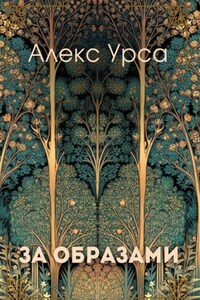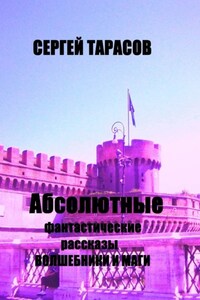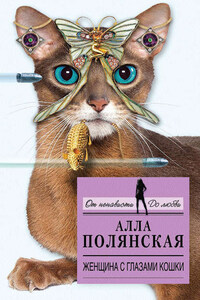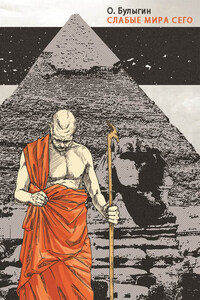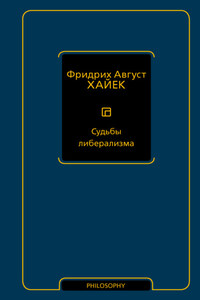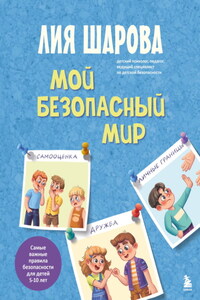Вчера, листая утреннюю ленту ЗаблокедИн с тем же антропологическим интересом, с каким Малиновский изучал обряды тробрианцев, мы натолкнулись на примечательный артефакт современной цивилизации. Уважаемый директор по развитию – человек, несомненно, способный отличить дебет от кредита и построить финансовую модель с дисконтированием денежных потоков – поделился откровением о своей новой методологии: «квантовом планировании целей через коллапс волновой функции намерения».
Позволим себе на мгновение остановиться и насладиться изысканной архитектурой этого интеллектуального оксюморона. Перед нами индивидуум, потративший минимум шесть лет на получение высшего образования, вероятно, ещё два года на MBA, способный оперировать многомерными матрицами в Excel, искренне убеждённый, что может влиять на квартальные показатели посредством «настройки квантовых вибраций». Дарвин, размышляя об адаптации видов, едва ли предполагал, что эволюция породит существо, одновременно владеющее регрессионным анализом и верящее в регрессию в прошлые жизни.
По нашим скромным подсчётам – проведённым, разумеется, без привлечения квантовых вычислений – термин «квантовый» в профессиональных социальных сетях употребляется с частотой, превышающей использование определённого артикля в Times. Каждые семнадцать секунд где-то в мире очередной менеджер среднего звена открывает для себя «квантовое лидерство», каждые тридцать четыре секунды регистрируется новый «квантовый коуч», и каждые две минуты рождается презентация о «квантовых стратегиях развития бизнеса». Примечательно, что частота употребления термина обратно пропорциональна пониманию уравнения Шрёдингера:
iℏ∂ψ/∂t = Ĥψ (где ψ – волновая функция, Ĥ – гамильтониан)
Как образованные люди, способные рассчитать NPV инвестиционного проекта с учётом стохастической волатильности, пришли к убеждению, что могут «коллапсировать реальность силой намерения»? Как произошло, что термины, для понимания которых требуется знание тензорного анализа и теории гильбертовых пространств, стали употребляться для описания процессов, традиционно относимых к области шарлатанства? И – что особенно пикантно – почему обладатели степеней MBA с большим энтузиазмом верят в «квантовое проявление», чем выпускники гуманитарных факультетов?
Позвольте нам исследовать этот примечательный феномен с тем же тщанием, с каким Дарвин изучал галапагосских вьюрков, с той же отстранённостью, с какой Леви-Стросс анализировал мифы амазонских племён, и с тем же едва сдерживаемым изумлением, с каким викторианские антропологи описывали ритуалы каннибалов. Ибо перед нами – не меньшее чудо природы: племя, поклоняющееся богам, чьи имена оно не может произнести правильно, но готовое строить вокруг этих искажённых имён целые космогонии.
1.2 Академическая дефиниция
Прежде чем приступить к анатомированию рассматриваемого феномена, надлежит определить его с той педантичной точностью, которая отличает классическую академическую традицию от континентальной склонности к поэтическим обобщениям.
Quantum deviatio (от лат. quantum – «сколько» и deviatio – «отклонение») – мы определяем как систематическое использование терминологии квантовой механики вне контекста физических явлений микромира, сопровождающееся инверсной корреляцией между уверенностью в понимании и фактическим пониманием предмета. Коэффициент этой корреляции, по нашим наблюдениям, составляет r = -0.97, что представляет собой почти идеальную отрицательную зависимость, редко встречающуюся в социальных науках.