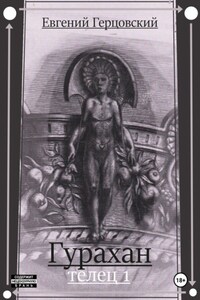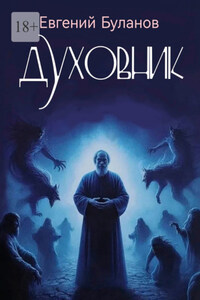Вселенная, как знала Селеста Харпер, была существом тихим, подчиняющимся лишь шепоту статистики и неумолимой логике квантовых вероятностей. Ночь за окном ее лаборатории была густой и непроглядной, угольное небо Манхэттена поглотило даже отблески неоновых вывесок. Здесь, на двадцать втором этаже, панорамное стекло превращалось в идеальное черное зеркало, в котором отражалась лишь она сама – бледное, уставшее лицо, обрамленное темными, небрежно собранными в пучок волосами, – и хаос ее царства.
Царство представляло собой просторное помещение, погруженное в полумрак, нарушаемый лишь холодным сиянием мониторов. Воздух был стерильным и прохладным, пахнул озоном от серверных стоек и сладковатым ароматом перегоревшего кофе. Тишину нарушало ровное, почти медитативное жужжание системы охлаждения суперкомпьютера «Цербер», чьи стойки мерцали синими светодиодами, словно дыхание спящего дракона. Это был ее дракон. И она была его укротительницей.
Взгляд Селесты скользил по строкам кода на центральном мониторе. Это был ее magnum opus – алгоритм «Протей», сложнейшая нейросеть, задачей которой было не просто предсказывать квантовые состояния частиц, а находить скрытые паттерны, «грамматику» в, казалось бы, случайном квантовом шуме. Она искала элегантность. Ту самую математическую гармонию, что, как она верила, лежала в основе всего сущего. Не Бога, нет – Бога для нее заменял безупречный, самоочевидный код.
– Лев, смотри, – ее голос, хриплый от усталости, прозвучал громче, чем она ожидала в этой тишине.
Лев Орлов, ее напарник и, как он сам себя называл, «инженер-реалист», спал, развалившись в кресле в дальнем углу. Его мощная фигура выглядела неуклюже в ergonomic-кресле, голова была запрокинута, рот приоткрыт. На его мониторе застыла трехмерная модель чего-то, что Селеста с насмешкой называла «практически применимой ерундой» – новый тип квантового сенсора.
Она снова погрузилась в данные. «Цербер» обрабатывал петабайты информации, поступавшие с детекторов, рассеянных по всему миру. Он слушал шепот вакуума, ловил мимолетные квантовые флуктуации. И сейчас он показывал нечто странное. Не ошибку, нет. Ошибки были грубы, их можно было отловить и отбросить. Это было тоньше. Едва уловимое дрожание в вероятностных кривых, крошечное отклонение, которое стандартная модель предсказать не могла. Как если бы фундаментальные константы – скорость света, постоянная Планка – на микроскопический квант времени решили передохнуть и пошалить.
– Упрямые цифры, – прошептала она, увеличивая график. – Вы что-то скрываете. И я это найду.
Она запустила калибровочный скрипт, решив, что это артефакт оборудования, возможно, солнечная буря, повлиявшая на чувствительную аппаратуру. Но скрипт завершился без ошибок. Оборудование было в норме. Реальность – нет.
Именно в этот момент мир дернулся.
Ровный гул «Цербера» на мгновение сменился на пронзительный, болезненный визг. Светодиоды на его стойках не просто моргнули – они вспыхнули ослепительно-белым светом и погасли, будто перегоревшая лампочка. Одновременно все мониторы в лаборатории – ее главный дисплей, экран Льва, даже маленький служебный терминал на стене – заполнились абсолютно белым полем.
Селеста замерла, сердце ее пропустило удар. Рука сама собой потянулась к аварийному выключателю.
И тогда на белом фоне проявилось изображение.
Оно было кристально чистым, цифровым, лишенным каких-либо полутонов или сглаживания. Падающая снежинка. Но не настоящая, а та, что рисуют дети – идеально симметричная, с шестью лучами, каждый из которых был составлен из пикселей, линий примитивного кода. Она медленно вращалась, и на мгновение Селесте показалось, что она слышит тихий, высокочастотный звон, словно хрустальный колокольчик. Фоном служили строки стремительно бегущего, незнакомого ей машинного кода, зеленые, как на старых мониторах с ЭЛТ.