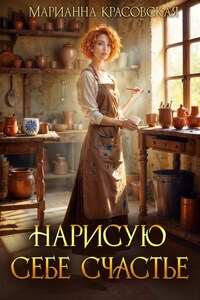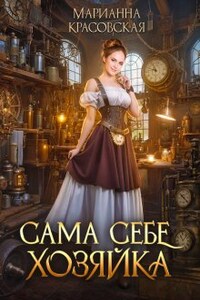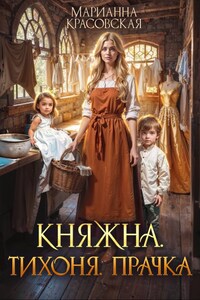Я снова проснулась от надсадного кашля за стенкой. Малодушно
спрятала голову под подушку и зажмурилась. Пусть Ильян встает. Он
достаточно взрослый для того, чтобы подать матери чашку теплой
воды. И даже траву заварить сможет. Конечно, это не помогает, но на
какое-то время успокоит больную.
Поднялась, конечно, согрела воды, напоила, укутала в одеяло. Брат
же спал крепко как сурок, он никогда не просыпался от таких
мелочей. Каждый вечер мы с ним договаривались, что он ночью подаст
матушке воды... да так ни разу и не проснулся. Может показаться,
что я плохая дочь, но это не так. Я очень люблю матушку... но
страшно устала. Она болеет уже несколько месяцев, с того самого
дня, как провалилась под лед на реке. Выбралась сама, даже не особо
и испугалась... А потом слегла с лихорадкой. Мы с Ильяном
перепугались тогда невероятно. Три года назад умер отец — а теперь
нам грозило потерять еще и маму.
Денег на лекаря не было. Матушка, знатная вышивальщица, еще в
городе ослабла глазами и не могла брать заказы, а больше ничего
делать не умела. Хозяйство вела она из рук вон, стирать не могла —
у нее сразу трескалась кожа на руках едва ли не до кровоточащих
язв. Готовила скверно, пересаливая и сжигая даже самые простые
блюда. Грязь и пыль не замечала вовсе. Отец всегда посмеивался, что
супружница его слишком нежна для этого мира. Но не ругался. Когда
успевал — готовил сам. А потом и я помогать во всем стала. Тем
более, что без дела матушка никогда не сидела, к ней в Большеграде
дамы в очередь выстраивались. Столь тонкой вышивки не умел делать
никто. И платили за ее труд даже больше, чем каменщику.
Когда же стало понятно, что работать мама больше не может,
родители придумали переезжать в деревню. Дескать, там прокормиться
легче. Юг же, растет все, что в землю воткнут. А для каменщика и в
деревне работа найдется. Нас с братом, разумеется, не спрашивали,
хоть я и была против. Ладно, бес с ней, со школой — учиться я
никогда не любила, а вот уроки рисования я оплакивала горько.
Мэтр-мой учитель считал, что я талантлива и прочил мне славное
будущее в академии художников. Но кого в деревне волнуют кисти и
краски? Рисовала я отныне только углем на белой стене...
Вначале мы жили очень даже неплохо. Четвертинку дома в городе
(одна большая комната и угол в общей кухне) продали, в деревне
купили уже целый, да еще и с огородом, и с полями вокруг. Здесь
были три комнаты, печь и летняя кухня на улице — можно даже хлеб
самим печь. Прекрасные виды на лес и реку несколько утешили мою
тоску. А еще можно было сколько угодно сидеть в траве или на
крыльце с блокнотом и грифелями, и никаких уроков.
Матушка в деревне расцвела, снова заулыбалась. Много гуляла,
выращивала цветы. Отец как и прежде строил дома и учился класть
печи. Братец целыми днями носился босиком с деревенскими
мальчишками. И конечно, мы собирались за столом каждый вечер, много
смеялись, рассказывали друг другу о своих успехах.
Отец меня очень любил и много баловал, а я и радовалась тому,
что не хожу с ведрами к колодцу да не пряду шерсть по вечерам, как
все местные девки. Лучше б ругал, как потом оказалось…
В один ужасный день отец упал с крыши, которую латал, и больше
не поднялся. А мы осиротели. Без доброго и всегда веселого мужа
матушка просто потерялась. Она больше не улыбалась, хоть и не
плакала при нас с братом. Просто погасла.
Но самое ужасное — у нас кончились деньги. Ильяну было всего
девять, работать он, разумеется, не мог. Мне — шестнадцать.
Вернуться бы в город — там бы нашлась для меня работа. Хоть
прачкой, хоть подавальщицей в трактире. А еще в городе можно было
найти достойного жениха. Здесь же, в деревне, я была все еще
чужачкой, причем далеко не раскрасавицей. Слишком тощая, слишком
рыжая, да еще вся в конопушках. Стирать на речке я не желала (а кто
бы желал?), пирогов не пекла (не умела), пряжу да вязание отродясь
в руках не держала, огород у нас зарос бурьяном. Ни искры магии во
мне комиссия не нашла.