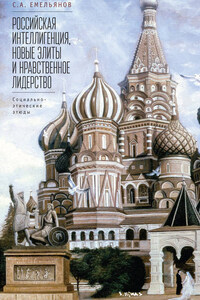Чёрное, белое, чёрное, белое...
Сменяется каждую секунду.
Чёрное, белое, чёрное, белое...
Вспыхивает перед глазами и гаснет, чтобы через мгновенье появиться
вновь.
Чёрное, белое, чёрное, белое...
Мелькает и раздражает, пугает и сковывает движения. Руки
отнимаются, ноги не могут сделать и шага, во рту сухо, а губы не в
состоянии разомкнуться, чтобы выдавить хотя бы писк.
Он падает.
Она видит, как его засасывает мгла,
как из темноты к нему тянутся костлявые руки, хватают за шею и
тащат вниз. Он еле дышит, и каждый новый вдох даётся ему с трудом.
Она это знает, но помочь не может.
Чёрное, белое, чёрное, белое... В
шахматном порядке и не переставая.
Справа и слева бьют часы. Она
насчитывает тринадцать ударов – ровно столько, сколько нужно, чтобы
объявить о смерти.
И запахи вокруг: сырой земли,
перемешанной с гнилью и затхлой травой; низкого неба, плачущего
холодным дождём; разгневанного океана, выбрасывающего на берег
тонны мёртвой рыбы; и древесины, подпалённой с обеих концов и
медленно тлеющей.
Он падает, а она делает последнее
усилие и начинает шевелить губами, еле слышно читая ещё в детстве
заученный стих. Призывная молитва на миг придаёт ему жизни, и он
открывает глаза, чтобы через секунду закрыть их навсегда,
сорвавшись в пропасть.
Она пронзительно кричит, царапает
свои руки в кровь и... просыпается.
Осень в этом году в Озёрном крае
выдалась ранняя. Размазывая по земле, словно по холсту, яркие
краски, она время от времени спрыскивала и без того совершенное
полотно прохладной дождевой водицей, а после вновь приступала к
широким щедрым мазкам. Песочная охра гармонично ложилась рядом с
вычурным багрянцем, жареное оранжевое солнце – с утомлённой за
летнее время зеленью, а роскошное золото – с размытым чернозёмом.
Всё в Озёрном крае дышало осенью. Всё наслаждалось последними
тёплыми днями и звуками жизни, которые, пройдёт месяц, исчезнут в
череде затяжных ливней, сменяемых нарастающим снежным
покровом.
...Бац!
Назойливая, наевшаяся и от того
ленивая муха перестала жужжать и ползать по сочному, местами
переспелому, винограду и упала кверху лапками на шершавую
поверхность деревянного стола.
Короткие пухлые пальцы брезгливо
смахнули мёртвое насекомое на пол, подцепили крупную
тёмно-малиновую виноградину и отправили её в рот. Прихватив ещё
парочку ягод, пальцы вновь поднесли их к обрамлённым жёсткой рыжей
щетиной губам, а те, в свою очередь, разомкнулись, но вовсе не для
того, чтобы впиться зубами в сладкую мякоть, а чтобы коротко и сухо
бросить:
– Не пялься в окно – не для тебя
зрелище. Пиши далее.
Лохматый конопатый мальчишка,
служивший младшим писарем при королевском казначее и отмечавшийся
особым усердием и прилежанием, обмакнул увесистое фиолетовое перо в
чернила и, высунув язык, приготовился начертать ещё дюжину изящных
загогулин.
– Угощения, – монотонно затянул
казначей. – С новой строки. Подано будет в жареном виде сто
куропаток, сто перепелов, пятьдесят свиней, двести золотистых
карпов; в варёном – двадцать бочек толстолапых раков.
Начертал?
Казначей подошёл к мальчонке и
заглянул тому через плечо. Роста мужчина был невысокого; в короткой
остроконечной бороде играло солнце, а в круглом животе бурлило
пиво. Оценив написанное, казначей одобрительно кивнул и причмокнул
губами: то ли виноград был вкусным, то ли почерк помощника –
ровным.
– С новой строки. Закуски: тыквы
пареные и засахаренные, огурцы малосольные, помидоры рассольные,
грибы круглые, грибы вытянутые, картофель печёный, чечевица
рассыпчатая... Готово?
– Готово, – довольно цокал языком
мальчишка, любуясь красотой, сложённой из букв в расходной
книге.