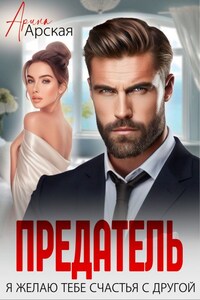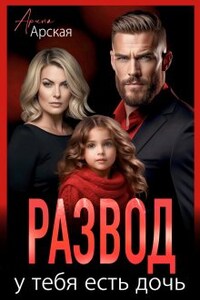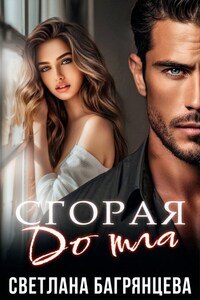— Мы любим друг друга… Если бы ты слышала меня сейчас, то поняла
бы меня..
Но я слышу, пусть не могу пошевелить даже мизинцем.
Я слышу, и мне ни сбежать, ни заткнуть наглую гостью, которая
громко всхлипывает в темноте:
— Ты должна его отпустить… — замолкает и судорожно шепчет, —
уйти…
Я не чувствую ни ног, ни рук, но в груди с каждым тихим ударом
сердца растекается, как расплавленный свинец, боль.
— Я позабочусь о твоих детках, — вибрирует темнота, — я буду их
любить… Я стану для них мамой… я обещаю, Надежда. Клянусь, поэтому
ты можешь идти на облачка, милая. Не терзай ты сердце Миши. Он тебе
всего себя отдал, он заслуживает быть счастливым…
Я чувствую, как из моей глотки тянется жесткая трубка, которая
закачивает в мои легкие воздух.
Я пытаюсь захрипеть, чтобы дать невидимой гадине знак, что пора
заткнуться, но ничего не происходит. Я вновь зависаю в черной
бездне пульсирующей точкой боли.
— Разве ты бы не хотела, чтобы Миша и твои дети были
счастливыми? Милая…
Я чувствую теплую сухую ладонь на щеке, и оче дернуться, но
черная бездна не позволяет этого сделать.
— Твое время пришло, Надежда, — печальный выдох щекочет лоб. —
Да и тебя уже давно с нами нет. От тебя осталась лишь оболочка. От
красавицы Надежды ничего не осталось.
Но я тут.
Я тебя слышу, но мне никак не врываться из темноты и не
посмотреть тебе в глаза с криком:
— Я живая! Я тут!
— Я виновата перед тобой. Я знаю, Надя, — шепот становится тише,
— но Мише было тяжело с тобой. Когда мы встретились с ним, он… сам
словно болел вместе с тобой. Да, я не должна была… но… мне жаль… —
плачет, — я влюбилась… Только поэтому я крала у тебя Мишу, но
теперь ты его крадешь у меня…
Я кричу, но моего крика неслышно.
Я согласна исчезнуть, но я все еще тут и чувствую на своем лице
ожоги от слез той, которая решила облегчить сегодня душу.
— А потом операция, Надежда… и теперь ты просто лежишь… Это так
страшно… Врачи говорят, что ты не вернешься к нам, и ты теперь
наказание для Миши и для ваших детей. Для меня. Простишь ты
меня?
Я не могу узнать этот голос. Он звучит словно из колодца
искаженным эхом. Если бы я могла открыть глаза, но это простое
движение, которое поднимает веки, кажется мне сейчас невозможной
фантастикой.
— Ты должна подарить своим близким освобождение, Надюш. Теперь у
них есть я.
А я?
Как же я?
Я ведь так боролась против болезни!
Мне было так больно каждый день, но я не отчаивалась. Даже
тогда, когда не могла самостоятельно встать с кровати, а мой
Миша…
Мой Миша, который обещал, что мы все преодолеем и что я
обязательно буду здоровой и сильной, утешал свое тоску на стороне с
другой женщиной?
И теперь эта женщина пришла ко мне исповедаться и просит, чтобы
я ушла на облачка?
Они ждут моей смерти?
Я слышу шаги, затем скрип дверных петель, а после тишина. Затем
она разлетается на осколки, когда раздается тихий и обеспокоенный
голос Михаила, моего мужа:
— Что ты тут делаешь?
Я вновь кричу, но вновь мой рот, из которого торчит пластиковая
трубка, на издает ни звука.
— Я хотела с ней поговорить, Миш, — отвечает моя гостья и опять
всхлипывает. — Я так виновата перед ней. Я ночами плохо сплю…
— Прекрати, — голос Михаила становится мягче, — но приходить не
стоило.
— Миш, — воет, — она же должна меня понять… она бы нас
поняла?
Михаил не отвечает.
Мою тьму режет белой нитью искра света. Я чувствую, как мои веки
вздрагивают и приоткрываются.
Через тонкую щелочку я вижу размытые очертания: у изножья койки
две тени. Одна жмется к другой. Я пытаюсь сфокусировать взгляд, но
вновь проваливаюсь в темноту.
— Оставь меня с ней, — шепчет Михаил.
— Хорошо, — следует тихий и слезливый ответ. — Миш, я должна
была прийти и попросить прощение.