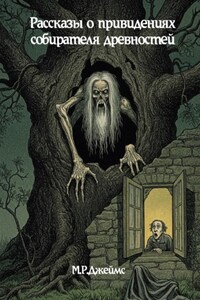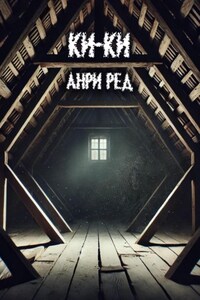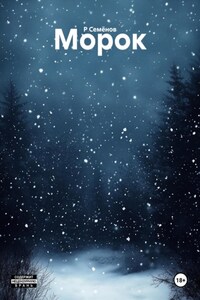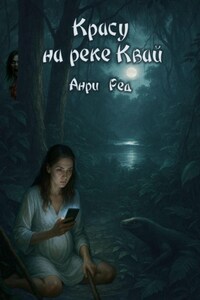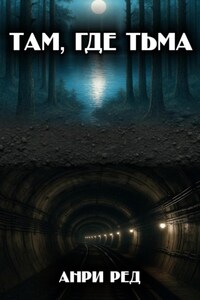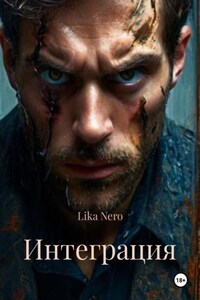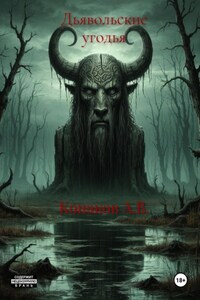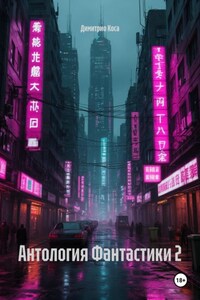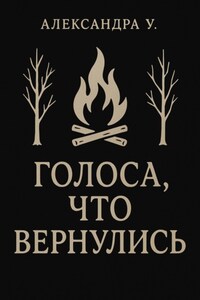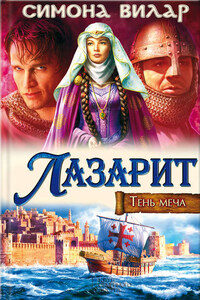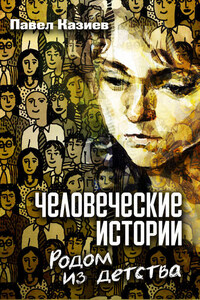Если кому-то любопытно, где разворачиваются события моих историй, то пусть будет известно, что Сен-Бертран-де-Комменж и Виборг – места реальные, а в рассказе «О, свистни, и я приду к тебе» я держал в мыслях Филикстоу. Что же до разбросанных по страницам обрывков показной эрудиции, то в них едва ли найдется хоть что-то, не являющееся чистым вымыслом; разумеется, никогда не существовало книги, которую я цитирую в «Сокровище аббата Томаса». «Альбом каноника Альберика» был написан в 1894 году и вскоре напечатан в «Нэшнл Ревью», «Потерянные сердца» появились в «Пэлл Мэлл Мэгэзин»; из следующих пяти рассказов, большинство из которых я читал друзьям на Рождество в Королевском колледже Кембриджа, я помню лишь, что «Номер 13» был написан в 1899-м, а «Сокровище аббата Томаса» сочинено летом 1904 года.
М. Р. ДЖЕЙМС
АЛЬБОМ КАНОНИКА АЛЬБЕРИКА
Сен-Бертран-де-Комменж – заштатный городок в предгорьях Пиренеев, не слишком далеко от Тулузы и еще ближе к Баньер-де-Люшону. До самой Революции здесь была епископская кафедра, и в местном соборе до сих пор бывает некоторое число туристов. Весной 1883 года в это старинное местечко (назвать его городом язык не поворачивается, ибо жителей в нем нет и тысячи) прибыл англичанин. Он был выпускником Кембриджа, специально приехавшим из Тулузы, чтобы осмотреть церковь Святого Бертрана. Двоих своих друзей, не столь увлеченных археологией, он оставил в тулузской гостинице, пообещав присоединиться к ним на следующее утро. Им-то хватило бы и получаса в церкви, после чего все трое могли бы продолжить путешествие в сторону Оша. Но наш англичанин прибыл рано и намеревался исписать целый блокнот и извести несколько дюжин фотопластинок, описывая и запечатлевая каждый уголок чудесной церкви, что возвышается над небольшим холмом Комменжа.
Для успешного осуществления этого замысла необходимо было на весь день заполучить в свое распоряжение церковного служителя. И вот, пономарь, или ризничий (второе название я предпочитаю, пусть оно и не совсем точно), был вызван несколько бесцеремонной дамой, хозяйкой гостиницы «Красная шляпа». Когда он явился, англичанин нашел его неожиданно интересным объектом для изучения. Интерес представляла не столько внешность этого маленького, сухонького, сморщенного старичка (ибо он был точь-в-точь как дюжины других церковных сторожей во Франции), сколько его странный, вороватый – или, вернее, затравленный и подавленный – вид. Он то и дело искоса оглядывался через плечо; мышцы его спины и плеч, казалось, были постоянно сведены нервной судорогой, словно он ежеминутно ожидал оказаться в лапах врага. Англичанин не мог решить, кто перед ним: человек, одержимый навязчивой идеей, терзаемый угрызениями совести или невыносимо страдающий под гнетом жены-тирана. Последнее предположение, если взвесить все вероятности, казалось наиболее правдоподобным, и все же старик производил впечатление человека, преследуемого кем-то куда более грозным, чем даже сварливая супруга.
Впрочем, англичанин (назовем его Деннистоун) вскоре слишком углубился в свои записи и так увлекся фотоаппаратом, что лишь изредка бросал взгляд на ризничего. Всякий раз, когда он смотрел на старика, тот оказывался неподалеку: либо жался к стене, либо съеживался на одном из великолепных сидений в хорах. Через некоторое время Деннистоун почувствовал легкое беспокойство. Его начали одолевать смешанные подозрения: не отрывает ли он старика от завтрака, не считает ли тот его способным умыкнуть епископский посох из слоновой кости или пыльное чучело крокодила, висящее над купелью.
– Не хотите ли пойти домой? – сказал он наконец. – Я вполне могу закончить свои заметки и один. Если хотите, можете запереть меня. Мне понадобится здесь еще как минимум два часа, а вам, должно быть, холодно, не так ли?