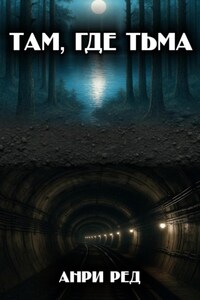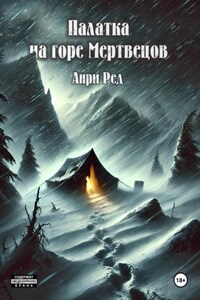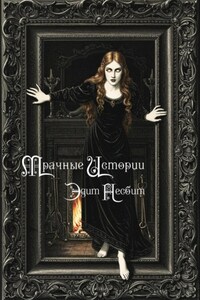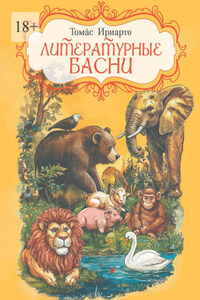Глава 1. Воскресное утро Никифора Петровича
(24 июля 1898 г.)
Никифор Петрович был в лесу, но не в том, где пикники и самовары, а в другом, мокром, тесном и чужом. Сосновые ветви сидели низко, точно чёрные пальцы скрюченных рук, и они цепляли полы его сюртука, добротного, купеческого, с воротовой подкладкой. Он бежал, но бег получался тихим, как у гимназиста, крадущегося после полуночи в родительский дом. Под ногами пружинил мох, редкие корни скрипели, будто натянутые струны дедовских часов, и где-то рядом, за столетними стволами деревьев, раздавались хлюпающие звуки шагов.
Он не понимал, что происходит. Как он здесь оказался, но чувство ужаса сковывало его по рукам и ногам. Он присел за валуном, покрытым лишайником цвета прогнившего сукна, припал щекой к сырой поверхности и задержал дыхание. Лес дышал вместо него, ровно, глубоко, по-звериному. В этом чужом дыхании было что-то, отчего во рту становилось солоно, как после морской воды или слёз. Что за шаги?.. Тьма ведь не ходит. Но что тогда там?
Он, лысеющий сорокалетний господин в вицмундире от Шармера и ботинках, начищенных ваксой с яичным желтком, вдруг ощутил себя мальчишкой с Галерной гавани, мелким, виноватым и прикрытым лишь пуговицами да маменькиной молитвой.
Когда тишина упала, как мешок с мукой, он вдруг услышал у самого уха грубое, влажное, пахнущее грибами и медью… чужое дыхание. Пауза… ровно на два удара сердца, в которую поместилось слово «поздно», проскрежетавшее словно ржавый металл. Он рванулся, но тело оказалось чужим и… сон лопнул, как мыльный пузырь над Невой.
В спальне было светло и в воскресном смысле уютно, разреженный свет, прошедший через кружево занавесок, обнявший пыль на карнизе и прижившийся к золотистой раме иконы в углу. За перегородкой пищал младший, кто-то из средних спорил за деревянного коня, старшая дочка шептала что-то, пытаясь кого-то унять. Мария Сергеевна, супруга, уже поднялась, её шаги, узнаваемые по осторожной, хозяйской мерке, двигались к кухне. Часы на камине показывали без пяти девять. Воскресное утро боролось с домашним шумом, как приличный господин с уличной пылью.
– Батюшки-с… – сказал Никифор Петрович, не вслух, а так, для себя, снимая остатки сна, как паутину с лица. Он провёл ладонью по лбу и посмотрело на слегка влажную ладонь. В висках ещё барабанил толчками пульс и то чужое дыхание… Он всё ещё слышал его в сознании. И, что странно, пахло чем-то лесным, хотя окно плотно закрывала белая кисея.
Дом их на Васильевском был устроен правильно, столовая на свет, детская рядом и спальня, выходящая окнами во двор, где по утрам кричали дворники и басовито заседали голуби. Фабрика на другом конце города, фарфор не любит суеты, любит терпение и выверенность. Это кропотливое дело и было тем, чем он занимался. Никифор Петрович тем самым кормил семью. Мария Сергеевна, красивая, тихая, с осанкой гимназистки, четверо ребятишек и всё это казалось логичным, устойчивым, как ряд тарелок, поставленных на ребро.
Кухарка Авдотья подала завтрак немного торжественнее, чем в будни. Омлет с зеленью, жареные ломтики телятины, сметанный соус, свежие баранки и в самоваре крепкий байховый чай, который Мария Сергеевна привозила из лавки на Большом проспекте. На столе красовались узоры скатерти и лёгкие тени от буфета. Никифор Петрович сел, положил салфетку на колени и почувствовал, как возвращается его обычный мир… Фарфор мелодично звякнул, чай выдохнул ароматным паром, ложечка крутанула маленькую воронку и тот лес и чужое дыхание отступили в даль, где им и место.
– Мария, душа моя, – сказал он ровно, без особой торжественности, – у меня сегодня назначена встреча. Люди с Урала, покупатели. Давно просились, да всё вразнобой. Теперь едут сами. Надо обсудить партии к Рождеству.