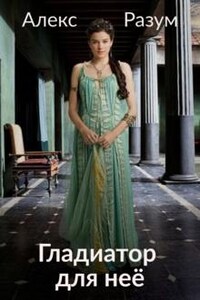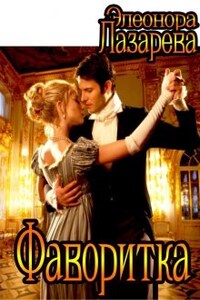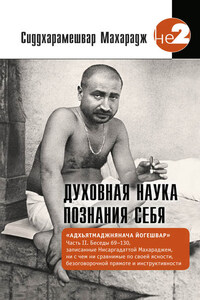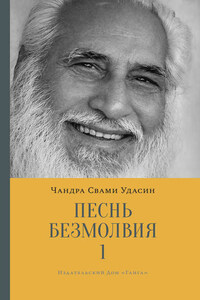О тебе ли рассказал до времени
Только звон оборванного стремени,
Струн живая вязь,
О тебе ли, князь,
О тебе ли, мой серебряный?
"Тристан" Мельница
Старая нянюшка любила рассказывать мне разные истории долгими
вечерами. Она, кряхтя, усаживалась у жарко натопленного очага,
чтобы погреть старые, ноющие кости, тщательно разглаживала
маленькими сухими ладонями складки на платье и доставала своё
неизменное вязанье.
Крючок ловко сновал в её цепких пальцах, набрасывая новые петли;
набирал ряды пёстрый чулок.
Пушистой шерстяной нитью вился негромкий убаюкивающий говорок
старушки Нимуэ, она вязала слова так же просто и уютно, как свой
бесконечный тёплый чулок...
Няня говорила о том, что матушка моя, прекрасная Гвинейра, не
знала, как ей выразить ту глубину чувства, что она испытала ко мне,
едва появившейся на свет крохе.
Уже предвидя скорый конец, что не позволит ей передать всю силу
нежности к своему ребёнку, матушка нарекла меня Ангэрэт - "больше,
чем любовь"...
Двое суток почти не прекращавшихся мучений подорвали и без того
слабое здоровье матушки.
После родов и до смерти, которая пришла к ней спустя неполный
месяц, она так и не вставала...
Едва ли не до вступления в сознательный возраст я уже ощущала
себя сиротой при живом отце.
Шли годы, а ард-риаг* Остин никак не мог определиться с ответом,
чего больше в отцовском сердце, - любви или ненависти.
Я отняла у ард-риага единственную женщину, которая оставила
вечный след в его душе.
Я была всем, что у него от неё осталось.
Её продолжением.
Её отражением.
Её двойником.
Его благословением и его проклятьем - вместе, неразделимо,
одновременно.
А я... я сама не знала, что испытываю к отцу, привыкшему
скрывать огненные страсти под холодными доспехами спокойствия.
Не своя, не чужая.
И покои мои были холодны и неприветны, как стены темницы, и я в
них - не хозяйкой, пленницей.
Нет, никто не чинил мне зла - да кто и посмел бы? Отец был
полновластным хозяином в своих владениях... Нет, мучить меня
дозволялось ему одному.
О, не спешите жалеть дитя, беззащитное перед произволом
жестокосердного родителя. Отец мой не был зверем. В жизни он не
поднял на меня руки - ни пустой, ни отягощённой
плетью-змеёй, что оставляет на коже витые узоры, не морил голодом и
не принуждал спать на стылых камнях. Я не стала героиней одной из
злых сказок, что любят рассказывать в народе непогожим вечером у
очага.
Увы! хоть через телесное истязание знала бы, что это отцовская
рука наказывает меня. Но он лишь изредка навещал мои покои и всякий
раз стоял и смотрел так, будто никак не решится, что сделать со
мною - обнять или ударить. Исход был предопределён - он
разворачивался и уходил.
Чтобы не вспоминать обо мне день... неделю... месяц.
Чтобы всё повторялось снова и снова.
Я была обеспечена всем необходимым для жизни и многим сверх
того. Владела всем, о чём мечтает любая девочка... и ничем из того,
что имеют они, нимало не задумываясь об этом: родительским
участием, домом, в чьё тепло всегда можно вернуться, свободой
бегать в вересковых пустошах, перекликаясь с братьями и
сёстрами.
Каждая девочка мечтает стать дочерью повелителя. Я же отдала бы
всё за счастье поменяться местами с дочерью кухарки или прачки,
бегать босой по траве, есть их скудный хлеб, греться у их
очага.
С рождения меня окружало множество слуг, все обязанности которых
заключались единственно в том, чтобы дочь ард-риага ни в чём не
нуждалась, чтобы была сыта, обеспечена какой-нибудь забавой,
защищена от сквозняков и холода, исходящего от напрочь выстуженных
стен. Но забота их была отчуждённой, купленной жалованием и
страхом. Казалось, они боятся меня - не меня саму, но отца,
стоявшего за моей спиной, и избегали хоть сколько-нибудь
сблизиться. В людской толчее я была одинока и предоставлена слепому
случаю, как заплутавший в лесу ребёнок.