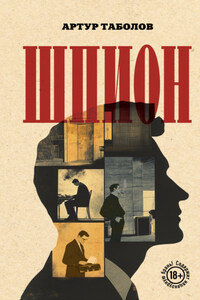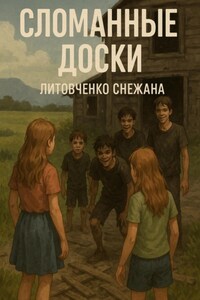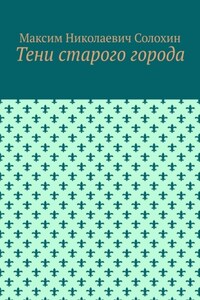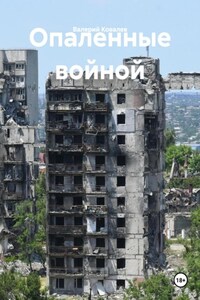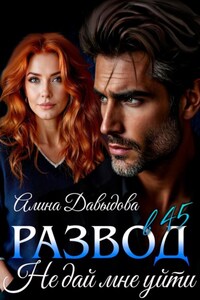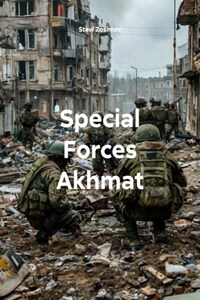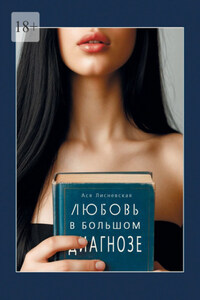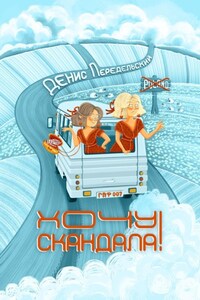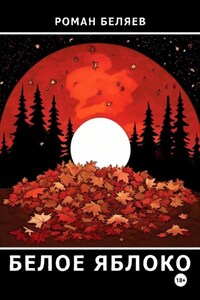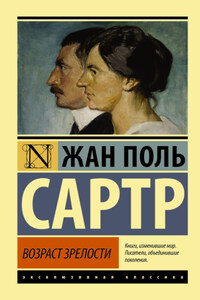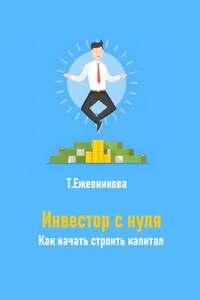Вместо пролога. Перебежчик
3 ноября 1947 года на военной базе британских ВВС вблизи Лондона совершил посадку тяжелый бомбардировщик «Ланкастер», прибывший из Берлина. В салоне было три человека: один штатский лет тридцати пяти, рослый, с резкими чертами лица, в габардиновом макинтоше и двубортном костюме; привлекательная женщина примерно того же возраста, модно одетая, и девочка лет восьми. Их сопровождала охрана из пяти солдат во главе с младшим офицером.
Самолет ждали. Как только он вырулил на стоянку и заглушил моторы, к трапу подкатил длинный черный лимузин с закрытыми шторками окнами. Охрана передала пассажиров «Ланкастера» трем штатским – их пересадили в машину, и лимузин в сопровождении джипа с автоматчиками выехал из ворот базы и направился в сторону Лондона.
Вечером того же дня в одном из домов на Кингстон Роуд раздался телефонный звонок. Хозяин квартиры взял трубку:
– Хопкинс, слушаю.
Звонил полковник Энтони Браун, один из заместителей директора МИ-5 сэра Перси Силлитоу, курировавший недавно созданный русский отдел британской контрразведки. Ветерану секретной службы Брауну было за шестьдесят – он начинал еще после Первой мировой войны, когда штат «Сикрет интеллиджент сервис» состоял всего из тридцати офицеров. В 1947 году их было около восьмисот. К этому времени СИС разделилась на контрразведку МИ-5 и внешнюю разведку МИ-6.
Звонок Энтони Брауна майору Хопкинсу был необычным. Напрямую они почти никогда не общались, все распоряжения передавались через начальника русского отдела.
– Вы мне нужны, Джордж, – слегка скрипучим голосом произнес Браун. – Дело срочное. Одевайтесь и выходите, машина ждет. Вы поняли?
– Да, сэр.
Срочные вызовы на службу во время войны были привычны, теперь они стали редкими. Хопкинс понял, что что-то произошло, но спрашивать не стал: о делах по телефону не говорят. Он надел шляпу и плащ, взял зонт и вышел из дома. Машина уже ждала у подъезда. Это был темно-синий Austin Seven из гаража МИ-5 – очень популярная в те годы «семерка», – на ее лаке отражался свет уличных фонарей, затуманенный моросящим дождем. Водитель молча открыл перед Хопкинсом заднюю дверь, так же молча сел за руль и завел двигатель.
Этот район Лондона сильно пострадал от немецких «Фау-2». Часть домов начали восстанавливать, развалины других обнаруживали себя зловещими черными провалами, прерывающими городские огни. Хопкинс предполагал, что его отвезут в Бленхеймский дворец, дворцовый комплекс в Вудстоке, в двенадцати километрах севернее Оксфорда, где с 1940 года располагались основные службы МИ-5. Но с Кингстон Роуд машина свернула на юг, прошелестела шинами над темной Темзой по Вестминстерскому мосту, пересекла безлюдные, словно бы настороженные, городские кварталы и вырвалась в пустоту, в ночь с мокрыми вересковыми кустарниками.
– Куда мы едем? – спросил Хопкинс.
– Куда надо, сэр, – вежливо, но как бы неохотно ответил водитель. – Будем на месте через сорок минут.
Оставалось ждать и молча смотреть, как навстречу машине летит лента пустого шоссе.
Джорджу Хопкинсу было тридцать лет. Перед войной он окончил Тринити-колледж Кембриджского университета со специализацией по славистике. Еще в детстве в мальчике обнаружилась способность к языкам. Он знал немецкий, свободно говорил по-французски, но самым любимым предметом считал русский язык. Хопкинс мечтал перевести на английский загадочного Достоевского и Чехова – не менее загадочного, но совсем в другом смысле. Те переводы, которые уже были, ему не нравились: они не передавали таинства текстов великих русских писателей.