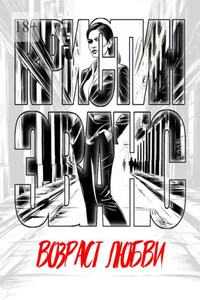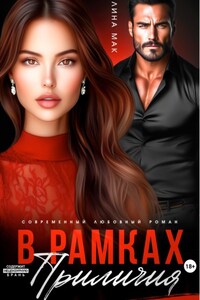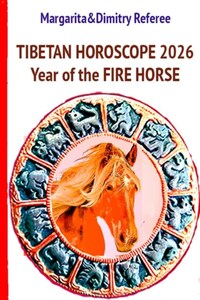Тишина была густой, тягучей, как смола. Она не просто отсутствовала – она материализовалась, заполнила собой каждый сантиметр крошечной комнаты, вдавилась в стены, прилипла к потолку, легла тяжелым, неподвижным покрывалом на Юлю. Она лежала на спине, уставившись в потолок, в трещину, которая расходилась от угла лучами застывшей молнии. Она знала эту трещину наизусть. Каждый ее изгиб, каждое ответвление, каждый крошечный скол штукатурки. За эти несколько дней – а может, недель; время потеряло свою форму и текло, как расплавленное стекло, бесформенно и опаляющее – она изучила потолок лучше, чем когда-либо изучала чье-либо лицо.
Она не плакала. Слез не было. Они остались там, в прихожей Игоря, высохли на ее щеках вместе с последними крупицами надежды. Теперь внутри была пустыня. Выжженная, раскаленная, безжизненная равнина, по которой лишь изредка проносились пыльные вихри былых ощущений – призрачное прикосновение его руки, обжигающий стыд от слов Виктора, холодящая пустота в глазах Арсения. Они пролетали, не задерживаясь, не вызывая больше ни боли, ни гнева. Лишь легкую, почти научную констатацию факта: да, это было. Со мной.
Дверь скрипнула. Юля не повернула головы. Она знала, что это Марина. Регулярно, как по расписанию: скрип открывающейся двери, тяжелые шаги, стук тарелки о поверхность тумбочки. Потом – тихий вздох, который был красноречивее любых слов. Вздох сожаления, усталости, может, даже легкого раздражения. Потом шаги удалялись, дверь закрывалась. Ритуал был отработан до автоматизма.
Сегодня шаги задержались. Юля чувствовала на себе взгляд Марины, тяжелый, испытующий. Она продолжала смотреть в потолок.
– Супу сварила, – голос Марины был хриплым от утренних сигарет, но в нем не было привычной едкой нотки. Он был плоским, как и все вокруг. – Куриный. Настоящий, не из пакета. Вставай, поешь горяченького.
Юля не ответила. Ее тело было ватным, невесомым и одновременно невероятно тяжелым, будто его приковали цепями к панцирю кровати. Мысль о том, чтобы подняться, сесть, взять ложку, поднести ее ко рту, прожевать, проглотить – казалась титаническим, невозможным трудом. Проще было лежать. Смотреть в трещину. Дышать. Иногда даже дыхание казалось ей изнуряющей работой.
Она слышала, как Марина подошла ближе. Из периферийного зрения Юля видела ее растоптанные тапочки и край выцветшего халата.
– Юль, ну сколько можно? – в голосе Марины прорвалось нетерпение, но она тут же его подавила. – Лежишь тут как бревно. Мир с конца не рухнул. Мужик ушел. Да, жаль, хороший мужик. Но не последний же на земле.
Слова долетали до Юли как сквозь толстое стекло. Искаженные, приглушенные, лишенные смысла. «Мужик ушел». Это была не просто констатация факта. Это был приговор. Игорь был не просто «мужиком». Он был мостом, перекинутым через пропасть ее прошлого. Он был светом в конце тоннеля, полного грязи, пошлости и саморазрушения. Она ухватилась за этот свет из последних сил, окровавленными пальцами, почти не веря в свою удачу. И вот мост рухнул. Свет погас. И она снова лежала на дне. Но это дно было теперь гораздо глубже, темнее и холоднее, чем все предыдущие.
Тогда, после Арсения, было отчаяние. Была ярость. Было дикое, животное желание заглушить боль алкоголем, чужими прикосновениями, самоуничтожением. Это была активная, агрессивная стадия падения. Теперь же наступила стадия полного паралича. Энергии не было даже на саморазрушение.
– Вчерашний так и не тронула, – констатировала Марина, забирая с тумбочки тарелку с застывшим, покрывшимся жирной пленкой супом. – Сегодняшний остынет. Деньги на ветер.